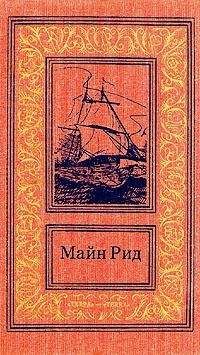Карел Птачник - Год рождения 1921
Несколько дней вся рота с опаской ждала результатов розыска и очень боялась за Гонзика. Но его не поймали и не повели в наручниках в гестапо, как обещал взбешенный капитан. На другой день, во время воздушной тревоги на заводе, сбежали Йожа Сербус, Тонда Досоудил и Франта Чижек; попался только один из них. Тогда капитан и начальник веркшуцовцев приняли новые меры. Тотально мобилизованных чехов обязали во время тревоги отправляться в бомбоубежище. По тем, кто побежит в поле, веркшуцовцы, расставленные около завода, получили приказ стрелять. В казарме ночной караул увеличили до четырех человек — двое немцев обходили коридоры, двое патрулировали по улице.
Кованде все сошло с рук.
8
Мы сидим в, низком, сыром подвале. Свет погас. Фрау Рейнгард сипит через свою серебряную трубочку, фрау Крегер кашляет в платочек, герр Кунце неподвижно лежит на скамейке, завернутый в одеяло; кажется, что он мертв — ни движения, ни жеста, никаких признаков безумного страха за свою жизнь.
Гул самолетов приближается, нарастает, заполняет собой все. От адского воя моторов воздух оглушительно вибрирует, зенитки гремят и беснуются, потом раздается взрыв. С потолка в темноте сыплется штукатурка; слышно, как над нашими головами под напором взрывной волны хлопают двери; мы присели на корточки, около меня Маргарет, она впилась ногтями мне в руку, а я машинально повторяю: «Спокойно, спокойно, спокойно, спокойно!»
Из подвала во двор ведут отдушины, через них к нам вместе с воздухом проникает запах дыма и чад пожара. Визг женщин тонет в адском грохоте. Подвал ходит ходуном, как торпедированный корабль.
И вот уже слышен только грохот самолетов над головой. Расправив кровавые крылья, они улетают, и постепенно затихает их рев.
Я бегу вверх по лестнице. Земля вокруг покрыта пылью, застлана дымом. Француз Жульен из соседней палаты, — ему не по силам ходить в подвал, — во время налета слез с постели и на четвереньках пополз в убежище, но около лестницы потерял сознание и, весь потный, лежит на каменном полу. Его истощенное лицо в копне черных волос бледно как мел, кулаки сжаты, зубы стиснуты, рот приоткрыт и словно перекошен бешеной ненавистью и злобой. Я беру его на руки и несу в палату. Он легок, как перышко, и тонок и хрупок, как марципановая кукла.
Через двор и главные ворота я выбегаю на площадку перед больницей. На пустыре перед зданием зияют шесть глубоких воронок, над городом стоит дым пожаров, слышен прерывистый вой сирен.
Приезжают первые автомашины с ранеными и мертвыми.
Я помогаю Маргарет таскать носилки. Она сильная, как парень. Мы носим погибших в мертвецкую и складываем рядами на каменный пол.
— Страшно! — говорит Маргарет, опираясь на меня. — Страшно! — И поднимает ко мне пепельно-бледные губы.
Кажется, я утверждал, что избавился от страха смерти? Как это было глупо и самонадеянно! Стоит только закрыть глаза, и страх снова поднимает голову. У него облик тех мертвецов, воспоминание о которых ужасно, от него я никогда не избавлюсь. Вид их навсегда останется в моей памяти.
Стоит только закрыть глаза, и снова вспыхивает призрачное, но жгучее пламя страха, и голос его, затихший в череде дней, снова звучит пронзительно и резко; от него не избавишься, его не перекричишь, не заглушишь…
Мои товарищи прибежали из школы, они страшно рады, что я жив. В городе прошел слух, что больница сгорела дотла.
Врачиха принесла мне бумажку из штаба батальона, в ней говорится, что мне предоставлен шестинедельный отпуск для поправки здоровья. Через семь дней мне разрешат уехать домой.
Какая радость! Я даже не рассчитывал на это, ни разу не подумал, что болезнь поможет мне избавиться от коричневого обмундирования, которое сейчас висит в шкафу, у изголовья моей постели. Признаюсь, я не особенно жаждал этой поездки, ведь дома даже не знают, что со мной произошло. Родителям я пишу письма, полные юмора и оптимизма, расхваливаю здешние условия, расписываю им идиллию, где нет ни пожаров, ни развалин, ни воя сирен, ни грохота самолетов, идиллию, при которой живется спокойно, без страха и треволнений.
Неужто я в самом деле утратил вкус к сладкому слову «домой»?
Нет, не утратил! Именно сейчас оно возвращается ко мне, подобно эху, и никогда еще это слово не было для меня таким отрадным. Никогда я не воспринимал его во всей глубине, а теперь я его выстрадал, я, человек, мысленно уже давно похоронивший себя для своих близких, смирившийся с мыслью, что никогда не увижу их. Смысл этого слова вдруг сливается в моей душе с образом лампы над столом. Отец нацепил старенькие стальные очки и жилистой, трудовой рукой держит газету. Напротив сидит мать и штопает чулки… Тихонько играет радио, на стене тикает будильник, кругом так тихо, мирно, спокойно…
И мне вдруг страстно захотелось избавиться от безумного страха смерти, который постоянно гнетет меня!
Прочь, прочь из Германии, из этих чужих и страшных мест!
Еще неделя! Надо ждать целых семь дней!
Дождусь ли я? Доживу ли?
Какой жестокий, нескончаемый срок! Какой нестерпимо долгий! Хорошо бы поехать сейчас же, сию минуту! Я словно боюсь опоздать… и почему мне вдруг опять страшно?
Ночью Маргарет пришла ко мне и села у постели. Ее горячие руки дрожали. Проснулся старый Кунце, глухо покашлял в подушку, попытался притвориться, что снова уснул, но кашель выдал его.
Я потихоньку встал и пошел с Маргарет по темному коридору в прихожую. Света не было, в дежурке спала сестра Анна-Мария, в коридоре на носилках лежал труп Жульена. В колеблющемся свете свечи его лицо казалось высеченным из белоснежного мрамора, в нем было что-то мрачное, сатанинское.
В прихожей стоят шкафы с медикаментами, стеклянные баллоны с газом для пневмоторакса, стол и стулья. Маргарет поставила свечу на шкаф, дверь в коридор оставила чуть приоткрытой, чтобы услышать звонок или зов из палат, и отдалась мне на столе, с которого поспешно убрала самовар, пачки бинтов и марли…
Потом мы вместе выкурили одну сигарету и перенесли стол за шкаф, чтобы нас не могли увидеть из коридора, а свечу поставили перед дверью.
Я проспал до полудня.
После обеда Маргарет шепнула мне, что мы забыли поставить на место стол в передней, и чтобы ночью я пришел в беседку в кустах, напротив моих окон..
Смеркается. Вошла Маргарет с зажженной свечой в руках и принесла мне ужин. Мы оба взглянули на свечу и засмеялись.
И вот я снова один. Я лежу на спине, в палате быстро темнеет. Широко раскрытыми глазами я смотрю в потолок, размышляю и, при свете карманного фонарика, пишу эти строки.
Старый Кунце уснул в своем углу.
Тишина.
Медленно близится ночь…
9
К вечернему отбою Кованда вернулся из больницы. У ворот дежурили Гиль и Бент. Гиль посветил в лицо Кованде и с усмешкой поглядел на его заплаканные глаза, потом потушил фонарик и хлопнул старого по плечу.
— Hau ab, Mensch![94] — насмешливо сказал он и, когда Кованда пошел дальше через двор, добавил, обращаясь к Бенту: — Видели? Плачет, как старая шлюха. Смешно!
Кованда шел по лестнице, тяжело переставляя ноги и держась за перила. Ребята, встретившие его в коридоре, молча уступили ему дорогу, повернулись и вошли за ним в комнату.
Карел придвинул Кованде стул.
С минуту было тихо. Парни молча стояли вокруг стола и терпеливо ждали.
— Ну, говори, — не выдержал Карел и крепко сжал плечо Кованды. Тот обвел взглядом товарищей и тыльной стороной руки утер слезы.
— Замедленная бомба… — с трудом произнес он. — Лежала прямо против его окна, в кустах, за старой беседкой. Он был в постели, когда она взорвалась… — Плечи Кованды передернулись от подавленного рыдания. — А постель стояла как раз под окном. Стена обрушилась на него, постель всю разнесло, перина в клочья, дверь сорвало с петель… А тот длинный старикан остался без единой царапины…
Кованда на минуту замолк, сжав голову обеими руками.
— Лежит в покойницкой, — продолжал он. Слезы обильно текли по его щекам, и старый Кованда не стыдился их. — Глаза закрыты, будто спит. Лицо белое, чистое, как ангел… прикрыт простыней, а она вся в крови. С ним там та толстая, черная сестричка, и все плачет, словно у нее мужа убили. И я, — тихо продолжал Кованда. — Я… тоже плакал вместе с ней… будто я сам ранен и умираю, будто пришел мой смертный час. …Подумал я, что ему уже дали отпуск… — голос у Кованды сорвался, — что через неделю он был бы уже дома и не вернулся бы больше в этот проклятый райх… И на сердце у меня стало так тяжко… хуже, чем когда моя невеста померла у меня на руках… Не хотелось мне идти обратно к вам, там бы прямо и умереть. Пойду, думаю, по дороге, все вперед и вперед, прямо домой, немцы меня схватят и пристрелят, я встречусь с Миреком и Рудой, с Ладей и Лойзиком. И с ним, с Пепиком, тоже. О своей семье мне и думать не хотелось. Даже о детях. Только этот несчастный парень не выходил у меня из головы…