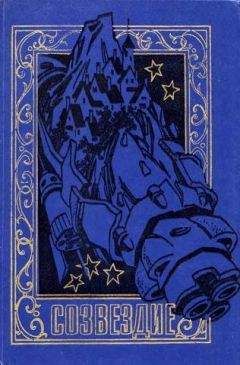Александр Бологов - Один день солнца (сборник)
— Принеси мне книги, — просит Антон.
— Какие?
— А всякие, побольше.
— А-а-а…
Иногда вечерами, если мы очень заняты, он просит дать ему старые книги, которые по сто раз уже просмотрены, выучены чуть ли не наизусть, В постели перед сном он листает их страницы — «Барона Мюнхгаузена», «Золотого ключика», «Конька-горбунка», «Синей бороды»… Одни просматривает быстро и откладывает к ногам, другие листает тихо, не торопясь, часто возвращается к перевернутым рисункам, — видно, еще много смысла, ведомого ему одному, осталось в этих старых верных книжках…
Я иду за ними, и тут — звонок.
Антон кричит:
— Это кто-нибудь ко мне? Или мама?
— Мама, — отзываюсь я. — Это ее звонок.
— А кто сильнее по сласти — мед или варенье? — спрашивает он за столом.
— Не кто, а что, — поправляю я.
— Ну, — что?
Я не успеваю ответить — вмешивается мама:
— Когда едят, не говорят, — напоминает она.
Это новости. Мы за едой только и делаем, что говорим. Когда же нам еще поразговаривать, если не во время воскресного завтрака.
— Когда едят, не говорят. А когда прожуем?
— Вот-вот, сначала прожуй.
Через минуту Антон объявляет:
— Я уже прожевал. Папа, давай поговорим.
— О чем?
— Ну, я поймал карася.
— А я красноперку.
— А я окуня.
— А я щуку.
— А я селедку.
— Как селедку? Она же меньше щуки.
— Ну, а как ты говорил? Такая большая…
— A-а, косатка.
— Ага. А я косатку.
— А я акулу.
— А я кита.
— А я… м-м…
— А-а-а, больше некого! — Антон хлопает в ладоши.
Действительно прибавлять уже некуда — крупнее кита на крючок никого не подцепишь. Я сдаюсь.
— А ты опять зачем-то ешь, — хитро щурится сын, едва мы закончили «рыбалку».
— Это ты корову вспомнил?
— Ага.
Ее мы видели в деревне, когда ездили за прополисом. Пробыли мы там весь выходной. На выгоне, недалеко от избы хозяина, на длинной цепи паслась корова. Целый день она не разгибала шеи — щипала траву.
Антон подбежал к ней с куском хлеба, протянул угощенье издали, но корова не обратила на него никакого внимания.
— Она не хочет, — сказал он, вернувшись, — все траву ест.
— А ты не бойся, подойди ближе, — сказал хозяин, — она смирная.
Антон отправился снова, сократил дистанцию; было видно, как он что-то говорил корове. Та наконец повернула голову и, не переставая жевать, поглядела на гостя… Он бросил ей хлеб и стреканул с выгона.
— Только ест и ест, — сказал с неудовольствием, — целый день.
— Растет, молоко дает, — заступился я за корову.
— А ты растешь? А мама?
— Мы-то уже нет.
— А зачем же ты ешь?..
Тогда же он поставил в тупик и меня, и владельца пчел, у которого мы приобрели меду и прополиса. Вдруг спросил:
— А почему у коровы рога так, а у быка так? — И выгнул над головой какую-то фигуру.
— А где ты видел быка?
— У меня есть в книжке.
Я обернулся к хозяину. Тот, кинув беглый взгляд в окошко — там паслась его буренка, — пожал плечами:
— Бык это бык, а корова это корова…
А в самом деле, отчего у быка рога так, а у коровы так?
Однако мы еще не кончили завтракать. Мы едим салат.
— У меня бой во рту, — говорит Антон, — то редиска побеждает, то лук, то сметана…
— У меня тоже, — отзываюсь я, чувствуя, как горький лук одолевает все другое. — Но я Марс, бог войны, я быстренько прекращу эту междоусобицу.
— Чего, чего?
— Междоусобицу…
Как могу объясняю, что такое междоусобица. Антон кивает и спрашивает:
— Сейчас покушаем и сыграем в хоккей? Я буду Мальцев.
— Выпей чаю.
— Я не хочу. Или в футбол?
— Чтобы опять пришла снизу соседка и разругала нас за шум? За «лошадиный топот»?
— Тогда поборемся.
— Тоже будем грохотать.
Мама подтверждает:
— Да, да. Уж как вы начнете возиться, тут не только Клавдия Ивановна, тут и сверху соседи могут прийти.
— Что же делать? Папа, давай соседку переедем к нам, а мы к ней? И пусть она играет над нами сколько хочет…
Его фантазии вырастают из его желаний. Как, впрочем, и у всех, в том числе и у взрослых. Но взрослые менее словоохотливы, менее доверчивы, нежели дети, которые легко верят как и в то, что слышат от других, так и в то, что говорят сами.
Иногда мне бывает очень трудно понять, как в его историях поселяется выдумка.
— Вот сюда мы посадим бурундука он маленький, ему хватит места, — рассуждает вдруг он, бродя по квартире. — Сюда черепаху — ее можно куда хочешь, она у Олега всю зиму спит. А тут будет коала, а я ему ветки буду носить. И я ребятам в саду расскажу — они все прибегут!..
Он даже в кладовке копается, перекладывает что-то.
— А куда же мы денем Лэсси, кенгуру? Ей же некуда прыгать…
Я молчу, не отвечаю.
— Та-ак, — рассуждает он дальше, — олень — хороший, волк — плохой, зебра — хорошая, тигр — плохой, дельфин — хороший, кит…
Тут, видимо, что-то у него заедает; издалека он спрашивает:
— Папа, а кит — хищник?
— Смотря какой. Кашалот — хищник.
— А кашалот — это кит?
— Кит.
— Ага.
Относить кита к «плохим» ему все-таки не хочется — этот великан не вызывает недоброго чувства, и он оставляет его в особом разряде:
— Дельфин — хороший, крокодил — плохой…
Сделав какие-то свои дела, он подходит ко мне.
— Папа, ты очень занят?
— Да как тебе сказать…
О-о, если я отвечаю таким тоном, можно не сомневаться в возможности отвоевать у меня несколько минут для наших общих дел. Да и меня, честно говоря, подмывает повозиться с ним в рукопашной.
— Поборемся? — еще не очень уверенно предлагает он.
Вместо ответа я начинаю закатывать рукава…
На середине комнаты мы обмениваемся рукопожатием и схватка начинается.
Позванивает в шкафу праздничная посуда, скрипят половицы, доносятся с кухни мамины предупреждения, что сейчас, дескать, заявится снизу Клавдия Ивановна, больной человек, и будет очень приятно…
— Пусть идет в баню… или в больницу!.. — пыхтит Антон, пытаясь провести подсечку.
— Цыц! — обрываю я. — Ты что это повторяешь мои нехорошие слова? Я их сказал шутя.
— И я шутя…
А вообще-то, можем мы, в конце концов, позволить себе в воскресенье отдых! У каждого свои представления о нем…
После третьей схватки, тяжело дыша, мы откидываемся на подушки и отдаем должное силе и мастерству друг друга.
— Ну, у тебя и ручищи, — отдуваюсь я. — Чуть шею не свернул…
— А ты мне тоже, вот, — разыскивает Антон что-то на коленке. — Вот покраснело…
Звонок молчит, Клавдии Ивановны не слышно — все в порядке. Значит, бросит в почтовый ящик записку…
…Антон уже что-то рассказывает:
— Мы с Вадиком, а они против нас. Мы, — ура! — и саблей, и саблей, а они подушками… А все равно нас Татьяна Леонидовна не наказала…
Через некоторое время мы играем в индейцев, и я, чтобы побыстрее закончить дело, подстерегаю его со спины. Тут уж делать, как говорится, нечего — он и томагавк не успел приготовить, когда раздался выстрел бледнолицего, то есть мой. Но что же это за игра — только начали, и на тебе… Антон ищет выход:
— Папа, давай так: по-твоему, я убит, а по-моему, — ранен, и война продолжается.
— Ладно, давай. Но раненые много не воюют — им надо в лазарет, раны порохом присыпать. А где, кстати, ты взял этот томагавк?
— Андрей дал.
Вопрос вызывает неожиданную реакцию. Антон передает мне томагавк — посмотреть получше — и рассказывает:
— Знаешь, мы мелких — раз! — к столбу пыток. Они— пленные, или принимаем в племя, если яблок принесли. И бросаем томагавк около головы…
— То есть как бросаете?
— Испытание…
— Та-ак…
— А потом пытки.
— Пытки?
— Мелких. Они пленные. Их в тюрьму — в кольцо в четыре локтя, — и сверху накрывают и прыгают. Мы прыгаем…
Ах, вон оно что. Я видел, как прыгали ребята постарше на бетонном кольце, забытом строителями на нашем дворе. Поверх кольца лежала дребезжащая дверца от «Москвича» из металлолома соседней школы. А в «тюрьме», выходит, сидели мелкие — Антон и его дружки…
— Виталик — Кауна, вождь, у него восемь перьев.
— Что ты говоришь!
— Да, восемь перьев к томагавку, за доблесть. А Андрей делает себе новый томагавк. Он, сказал, привяжет к нему волосы от маминого парика. Как скальп…
У нашей мамы, слава богу, нет парика.
— А когда пытки — бьет барабан. А потом мелких — в подвал.
— Там же страшно.
— Там дохлые кошки.
— А… мелкие не боятся?
— А чего им бояться, кто их тронет…
Для таких, как он, молчание — терпение.
— Папа, ты работаешь?