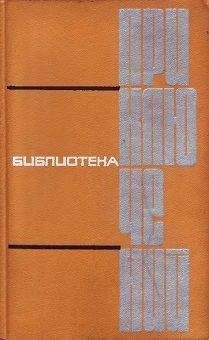Павел Кодочигов - Здравствуй, Марта!
— Вон он, у крыльца сидит.
Марта бросилась к сыну. Он поднял на нее глаза и сразу опустил их, застеснявшись чужой, оборванной тети, которая ничего не говорила, но зачем-то протягивала к нему руки. Он исподлобья взглянул на нее и отвернулся.
— Борька, сын мой! — опустилась перед ним на колени Марта.
* * *
Весь день слезы и счастье лучились в глазах матери. Все старалась она движением, взглядом приласкать дочь, отогреть ее, как когда-то, когда Марта приезжала домой на каникулы из школы, а потом из института. Дочь была выше ее, сильнее, но по-прежнему казалась ей маленькой и беспомощной, нуждающейся в ее опеке и покровительстве. И весь день в их домике толпился народ — приходили поздравить, любопытствовали: как да что?
А вечером, когда остались одни, мать попросила:
— А теперь расскажи мне все.
Марта горько усмехнулась:
— Все очень просто, мама. Беженцы из деревни Орлово подписали ложный донос. За пшеницу, которую им продал Скурстен...
— Опять Скурстен?!
— Опять. Будто я передавала сведения Николаю Федоровичу. Он — партизанам. Они сообщали нашим, и наши бомбили их военные объекты.
— Но ведь не было же этого, Марта? — привстала от удивления Эмилия Ермолаевна.
— Конечно, не было, вот если бы они о другом дознались... Возили меня в Борки на очную ставку с Николаем Федоровичем. Перетрясли там всех, пока не убедились, что он не отлучается из деревни, потащили на очную ставку с этими беженцами, и они признались, что в глаза меня не видели...
— Так что же тебя держали так долго?
— Не отпускать же, раз взяли. И знаешь, почему я вернулась? Только никому ни слова. У немцев работали два латыша. Офицеры. Они помогли. Так помогли, что и представить себе не можешь. Они и отпустили...
— Так что же они немцам служат, если так?
— Вот так и служат, а вообще и там жить можно.
— Не понимаю тебя, Марта?
Марта повернулась к матери и горячо зашептала:
— В Гатчине были пленные летчики. Трое в сарае заперты, и их уже не кормили. Мне удалось сначала подбросить им хлеба, а потом мы подобрали ключи, выпустили их, и они сбежали. Дерзко сбежали, им терять уже было нечего — все равно смерть. Сигналы во время налета наших самолетов, когда они разбомбили склады с боеприпасами, тоже наша работа... Там были такие отчаянные летчики, мама. Только смотри ни гу-гу!
Марта вскочила на ноги, прошлась по комнате.
— Везде можно быть человеком, мама. Даже в тюрьме! Присела у кроватки сына.
— А Борька-то, Борька как вырос и меня не узнал. Как это тебе нравится?
— Отвык — маленький еще.
— Мама! — В голосе Марты тревога и беззащитность. — Скажи мне правду, мама... Неужели я так изменилась... постарела?
Мать понимающе вздохнула:
— Не беспокойся, узнает тебя твой Миша. Отойдешь.
Если бы не Марта...
В октябре сорок третьего в прифронтовой зоне немецко-фашистских войск заполыхало зарево пожаров. Создавая на случай наступления наших войск «зону пустыни», враг сжигал деревни, а жителей сгонял с насиженных мест. Даже в тех населенных пунктах, которые не предавались огню, не осталось ни одного человека.
Многие новгородцы были вывезены в Литву и высажены в Мажейкяе, небольшом городке неподалеку от Латвии. Их объявили «беженцами» от Советской власти. Был даже создан «Комитет по защите русских беженцев». Система подавления и уничтожения работала с учетом психологических факторов: если и выживешь, то попробуй докажи, что ты не сам убежал, а тебя угнали, авось найдутся такие, которые побоятся вернуться на Родину, запятнанные кличкой «беженца».
Общую участь со всеми разделила и Марта Лаубе.
До освобождения Новгорода и земли новгородской оставалось всего три месяца...
* * *
По лесной дороге медленно катится повозка. На ней русый парень Сережка Мельников, его сестра Лида да сосед их, старик Лукоша. До Мажейкяя недалеко. За добрым бы делом туда — вмиг домчались. Но не затем едут, не по своей воле, и потому полны слез глаза Лиды, сник и неробкий парень Сережка.
Молчит и Лукоша. Не погоняет лошадку — понимает, каково оторваться от своих и ехать в Германию. Из одной неволи — в горшую, которую и своему врагу не пожелаешь. Разве намекнуть, чтобы бежали куда глаза глядят. Только как скажешь об этом?
И Сережкины мысли о том же. Строит разные планы, но ни один не годится. На Новгородчине укрылись бы у родных или знакомых, в лес подались бы, а тут поди попробуй, когда даже языка не знаешь. Вот если бы с Лукошей договориться... Старик он вроде бы хороший, но тоже угадай, что у него на уме. Может, он должен отчитаться за них каким-нибудь документом? Привезти и сдать под расписку?
Вот и Мажейкяй. Тарахтит повозка по его улицам, сворачивает к «Комитету по защите русских беженцев». Здесь надо сделать отметку — и на вокзал. Он уже оцеплен. Попадешь туда — назад пути не будет. На негнущихся ногах входит Сережка в помещение — еще минуту назад теплилась надежда, все казалось, что произойдет какое-то чудо, сейчас — никакой.
Мужчина в комнате, вроде бы немец, и переводчица. Новгородка! Видел ее однажды парень, подивился необычной красоте и стройности, запомнил. Она это. Помогла бы! Должна же понимать! Подал документы, попереминался с ноги на ногу, присматриваясь, прежде чем довериться. «А, была не была! Двум смертям не бывать, а одной не миновать!» Зашел к столу так, чтобы загородить переводчицу от немца, выдавил:
— А может, не обязательно... ну, это... ехать? Вытер о штаны сразу вспотевшие ладони, ждет.
А она вроде и не слышала. Шелестнула листочками списков, отыскивая их фамилии, вчиталась — кто да откуда? Тень или улыбка пробежали по лицу. Заговорила, не поднимая головы. В голосе строжинка: почему поздно явился — все давно на вокзале! Где сестра? Почему сама не зашла? И тут же вскинула на парня большущие голубые глаза:
— Смелый больно...
И это сказала строго, а он уже подобрался, вострит ухо — что дальше будет?
— Некоторые скрываются, а потом штамп получают об освобождении...
Насторожился немец. Спиной стоит к нему Сережка, но чувствует, как сверлит он его подозрительным взглядом. А переводчица сделала какие-то отметки в бумагах и совсем сердито:
— Быстро на вокзал! Дожидаться вас там будут! Шнель! Шнель! — Довольно хохотнула, когда он отскочил от нее, напуганный таким оборотом дела, сказала что-то по-немецки, и толстопузый тоже выдавил из себя кислую улыбку.
Пятясь вышел из комнаты Сережка. Голова кругом: ничего не поймешь — то одно говорит, то другое. Сначала вроде бы хорошо разговаривала, а потом вон как раскричалась... На улице все-таки сообразил — из-за немца она так! Сама же о штампе намекнула!
Дробно стучит повозка. Длинный шлейф пыли тянется за ней. Нет-нет да и прихватит кнута лошадка, мотнет хвостом и понесется вскачь. Весела обратная дорога, коротка, но о главном успевает договориться — Сережку схоронит на время Лукоша, а Лиду переправит на дальний хутор к надежным людям.
— Я хотел и раньше тебе подсказать, да сам знаешь время какое... Ну, а если решился, то почему не помочь? — словно оправдываясь, говорит Лукоша.
— И я боялся, — признается Сережка, но о том, что Марта о штампе сказала, умалчивает: кто знает, как еще все обернется, удастся отсидеться или нет? Пусть лучше он один пока знает об этом...
* * *
Бродит по улицам девчонка. По каким — не помнит, с кем встречается — не знает. Кто-то знакомый ее окликает — не слышит. Волочит ноги, глаза в землю — главный вопрос для себя решает: в Мажейкяй вывезли — ладно, но сейчас в Германию стали угонять. А это не Литва. Смерть и то лучше. Так не самой ли со всем и покончить, чем мучиться? Но как решиться на такое? Жизнь-то единственная, другой не будет...
Бродит по улицам девчонка, пылит старенькими туфлями. Одинокая, несчастная. Никому не нужная. Кто-то трогает за руку — не чувствует. Сильнее тянут. Поднимает глаза: Марта-переводчица перед ней.
— Ты Валя Тихонова?
— Да...
— А куда идешь?
— Да так... никуда...
— Я с тобой пойду. Можно?
Вместе идут, а вроде бы порознь. Не слышит девчонка, что ей говорит Марта. Потом улавливает какие-то слова, вникает в их смысл. Неужели это правда? Ой, как хорошо бы было!! А откуда она это знает? Хотя...
Смятение на лице девчонки. Первая улыбка пробилась. Походка увереннее стала. Глаза загорелись, надежда в них засияла. "Ногу незаметно для себя под шаг Марты подобрала, ловит каждое ее слово и ушам своим не верит: да неужели же правда все это?
К вокзалу подходят. Эшелон стоит на путях — снова из России везут людей в Германию. Марта останавливается, лицо ее мрачнеет.
— До свидания, Валя. Я на вокзал — надо узнать, откуда они. Может, что новенькое расскажут. Со мной хочешь? Не надо... Опасно это. Ты лучше ко мне домой приходи — я тебе книжки хорошие дам почитать, на гитаре поиграем.