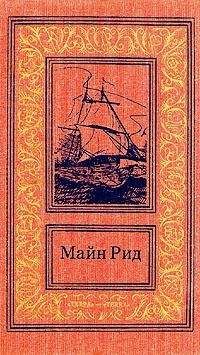Карел Птачник - Год рождения 1921
Маргарет рассказывает мне о себе, я отвечаю ей тем же. Ей двадцать девять лет, у нее пятилетний сын, а муж уже шесть лет на войне. Незадолго до рождества он попал в плен во Франции. Об этом она сказала равнодушно и принесла мне прочитать всю свою любовную переписку с ним до брака.
В мою палату принесли старого Кунце. Это долговязый, худой, как палка, семидесятилетний старик, без единой сединки в душе. Он когда-то был директором фабрики и объездил весь мир. Кунце говорит по-французски, по-английски, по-испански и по-польски. Туберкулезом он заболел еще в юности, лет пятьдесят назад, и вылечил его в сухой жаре Египта. Потом Кунце пятнадцать лет жил в Англии, и нигде его бронхи не были такими здоровыми, как в лондонских туманах. Мне он показался мудрым, как сам бог Саваоф. Я благоговейно вслушиваюсь в его тихую речь, в каждой фразе которой, как и в каждом жесте его тонкой, почти прозрачной руки, — мудрость, умиротворение, покой.
— Когда вам исполнится семьдесят, — улыбается он, — и если жизнь у вас пройдет, как моя, в странствиях по белу свету, вы поймете, до чего ничтожны люди, насколько им не по душе взаимопонимание и как тесен мир. И как невелики пределы человеческого познания. И как хорошо быть молодым и самоуверенным, и как тягостно знать много и обо всем размышлять. Тогда вы почувствуете, что озадачены жизнью куда больше, чем в двадцать лет, и решите, что вы совсем не состарились.
Жар и кашель мучат Кунце, но он не жалуется, он ко всему относится стоически и не теряет присутствия духа.
— Только одно меня огорчает, — говорит он, — это то, что там, в далеком мире, мне иной раз приходилось стыдиться, что я немец. А ведь я помню времена, когда гордился этим.
— А теперь?
Он прикрыл глаза и не ответил.
Вот уже пять месяцев я валяюсь в больнице, дни бегут один за другим, время мчится, исцеляя мою болезнь, исцеляя мою смятенную душу. Я вспоминаю первые дни болезни, наполненные гнетущим отчаянием, тоской по родным и товарищам, нестерпимым чувством бессилия и одиночества, мучительной скорбью. Впервые в жизни я не стыдился слез и нашел в них облегчение и успокоение. Вспомнил свою вначале тщетную, но в конце концов победную борьбу за волю, за самообладание, за веру и уверенность в себе.
А время тащилось словно поезд на малых скоростях, медленно, нестерпимо медленно, и будни проходили мимо меня, как кулисы скучного спектакля на полуосвещенной сцене, где только тени дают понять, что где-то очень далеко пылает яркий огонь. И все же этот поезд привез меня в край спокойствия и безмятежности, и я неторопливо перебираю четки воспоминаний, сейчас проникнутых лишь умиротворением и покоем.
Сестра Маргарет вчера поцеловала меня у двери, не смущаясь тем, что старый Кунце еще не спал и читал газету. Я сказал ей, чтобы она побереглась — можно заразиться туберкулезом. Но она вскинула на меня веселые черные глаза и шепнула, что тщательно проверила в лаборатории мои анализы и убедилась, что я могу больше ничего не опасаться.
Старый Кунце повернулся лицом к стене и сделал вид, что спит. С этого дня я и Маргарет часто «случайно» оказываемся наедине в коридоре, и она прижимается ко мне; у нее крепкое и зовущее тело.
Старый Кунце тактичен.
— Старость думает, что она разумна и все понимает, — говорит он, лежа на высоко положенных подушках. — Но старый человек, забывает о собственной юности и безрассудствах, которых уже не может себе позволить, ибо старым сердцем владеет чрезмерная рассудительность.
Над городом ежедневно в полдень появляются самолеты, хоть часы по ним проверяй; рокот моторов сыплется с неба, как град, и это монотонное интермеццо иной раз продолжается четыре часа. Мы не уходим в подвал, а только одеваемся и, сидя, ждем, не усилится ли рокот на два-три тона — тогда надо идти в убежище.
Вчера я был на рентгене, и врачи чуть не поссорились, обсуждая мой диагноз: никак не могли найти в моих легких обширных затемнений, которые были там… когда? — почти полгода назад. На снимке их тоже больше не видно. Маргарет стояла вместе со мной в темной комнате и крепко сжала мне руку.
Каждый день у меня в палате бывает хотя бы один гость, оттуда, из бесконечно далекой и уже почти чужой казармы. Иной раз мне кажется, что товарищи составили график визитов ко мне, чтобы ни на один день не оставлять меня в одиночестве, хотя оно стало для меня не источником страданий, а желанным прибежищем:
Гонза приходит и насвистывает мне целые пассажи из своих новых композиций. Недавно он пытался воспроизвести таким образом «Итальянское каприччио» Чайковского и был очень огорчен, что свистом нельзя передать звучания симфонического ансамбля.
До конца войны уже недалеко — с фанатической уверенностью твердит Гонзик — Германия уже разваливается на части. Россия вступает в Европу. Хорошо, если бы ее идеи захватили весь мир. И этого не миновать. Идея коммунизма неистребима. Она как прекрасная музыка. Если бы все люди любили музыку, на свете жилось бы много лучше.
Ребята принесли мне старый патефон. Фера, присев на корточки у моей постели, вытащил из кармана отвертку и стал его разбирать.
— Я поставил там новый маховичок, — объяснил он. — А то он теряет скорость. Я хоть и не музыкант, но, как завели польку, сразу заметил, что в нем что-то неладно.
Густа пришел писать с меня портрет.
— Не сердись, — говорил он, когда, после двух часов позирования, я совсем одеревенел. — Еще минуточку!
Портрета он мне так и не показал.
— Отнесу в школу, там докончу, тогда увидишь. Будет тебе сюрприз.
Ирка фотографировал меня со всех сторон — и на постели, и у окна, и перед домом, и контражуром на фоне неба.
— Немецкие пленки и оптика — лучшие в мире, — говорил он. — Удивляюсь, как такие отличные оптики и химики могли настолько потерять человеческое подобие.
Фрицек пришел ко мне с теннисным мячиком и, перекидывая его из руки в руку, не меньше часа читал мне футбольную хронику из чешских газет.
— «Спарта» играет из рук вон плохо. Я теперь из принципа за «Славию». А ведь всегда болел за «Спарту»!
Старый Кованда вчера принес мне деревенские лепешки и гусиную ножку.
— Еще тепленькие, — сказал он, сияя. — Вчера моя старуха прислала мне во-от такую посылку! А я тебе еще не рассказывал, как осенью ездил в отпуск? Этакий я олух: вернулся и узнаю, что неделю назад Эда смылся со всей компанией. Я так расстроился, что готов был пристукнуть себя на месте. Но все-таки лишнюю недельку я дома пожил. Наш горбач послал телеграмму, и за мной пришел полицейский из города. Мой знакомый. Я ему говорю: послушайте, господин Коларжик, я знаю, что вернуться надо. Я вас тут уже неделю жду, вон и чемоданчик приготовлен. Но не поведете же вы меня в наручниках? Ведь все равно к рождеству немцы полетят отсюда вверх тормашками. Он перепугался, мол, что же это такое я говорю, да так, мол, нельзя. Но я-то его знаю, часа не прошло, как он снял свою портупею и мундир, расстегнул рубашку, а через два часа мы с ним оба были в стельку — у меня нашлись литра два старой сливовицы. Я из его ружья стрельнул в кота, а вся деревня подумала, что пришли русские. Сосед Якуб Голейх даже вывесил красный флаг.
Потом мы пошли на станцию. Туда пехом полтора часа. Коларжик помогал мне нести чемодан. А здесь горбач отменил мне увольнительные на месяц, а вчера еще на месяц. Но сегодня я все-таки удрал. Этот осел думает, что я буду торчать в казарме, когда мне нужно отнести товарищу лепешки и гусиную ножку!
Все ребята говорят о побеге, готовятся к нему. Гонзик рассказал мне о подготовке и обещал, что они не забудут и обо мне. Мол, и я должен быть с ними. Но как?
Я думаю об этом, и меня охватывает тревога, я никак не могу принять решения и мечтаю, мечтаю об этом счастливом времени… Но от мечты меня вновь отвлекают беспокойство, сомнения…
Куда бежать? Я уже убежал от самого себя… А за окном солнце робкими девичьими губами говорит о весне… Тишина вокруг расцветает волшебными, небывалыми цветами.
6
Капитан сильно изменился за последнее время. Это заметили и немцы, и чехи, и все тщетно гадали, каковы причины перемены, отразившейся на лице Кизера, в его поведении, манере разговаривать. Тщеславный горбун, которому всегда не хватало властности и умения быстро принимать самостоятельные решения и руководить людьми, вдруг стал по-воински решительным и непреклонным. Он мог сам ударить человека, пнуть его ножкой в начищенном сапоге, вспылить и накричать; лицо его наливалось кровью и искажалось от злобы. Это был уже не прежний самодовольный, улыбчивый начальник, склонный к помпезности, любивший хорошие сигары, щегольски сшитый мундир. Теперь он проникся сознанием своего командирского долга и уже не оставался равнодушным к фактам, первым из которых был столь постыдный для него случай — побег двадцати трех чехов. Тогда Кизер впервые долго размышлял о себе и о вверенных ему людях и наконец пришел к выводу, что сам повинен в разложении роты и когда-нибудь его призовут к ответу за все упущения и промахи.