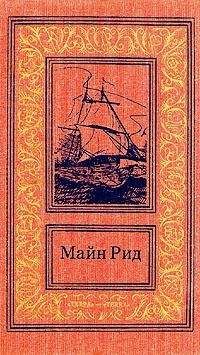Карел Птачник - Год рождения 1921
5
Товарищи регулярно навещают меня. Не забывают, выкраивают свободную минутку по вечерам в будние дни, а по воскресеньям ко мне вваливается вся наша комната. Однажды ко мне пришло сразу восемнадцать гостей, они расселись на свободных койках и на столе, галдели и смеялись, а уходя, останавливались в дверях, причмокивали и говорили, качая головой:
— Не жизнь у тебя, а лафа, Пепик! Ни черта не делаешь, знай валяешься да толстеешь.
Это правда. У меня хороший аппетит. Сестра Маргарет приносит мне двойную порцию обеда и ужина и с улыбкой смотрит, как я управляюсь со всем этим.
— Ешьте, ешьте, — говорит она. — Ешьте, сколько можете, это вас спасет.
В самом деле?
В нашем одноэтажном корпусе шесть палат, по три с каждой стороны коридора, две уборных, комнатка для дежурной сестры, ванна и подвал. Раньше в этом маленьком строении держали больных дифтеритом, корью и туберкулезом, теперь — только туберкулезников. Впервые в жизни я близко соприкоснулся с ними, но все еще не могу причислить себя к этим больным и смотрю на них с каким-то «кастовым превосходством», словно все еще считаю себя здоровым. Это чувство отчужденности от явно больных заставило меня ясно понять, что сейчас я ценю жизнь больше, чем в первые дни болезни. Мне уже не все равно, выживу я или нет. После нескончаемых ночей, полных отчаяния и сознания обреченности, во мне снова проснулась жажда жизни. Выздороветь, совладать со своим телом, а главное, душой, ведь она пострадала много больше, чем тело, которое уже крепнет, уже обретает физические силы. Я снова в хорошем, бодром настроении, перестал размышлять о боге и о последних минутах человека. Жизнь уже не отравлена сладковатым привкусом крови во рту, жаром лихорадки и головокружением от слабости и от сознания своей беспомощности. Сомнения, уныние, страх исчезли.
В соседней палате четверо больных: двое немцев, итальянец и француз. Обоим немцам разрешены прогулки, они ходят по двору неразлучной парой, из конца в конец, из конца в конец, неутомимо отмеривают две сотни шагов на свежем воздухе. Сложив руки за спиной, они идут медленно, чуть волоча ноги в теплых комнатных туфлях; шея у них закутана шарфом, на головах — шапки.
Один из них, беженец из Ахена, по имени Ниссен, — сухощавый человек лет за сорок. Руки у него жилистые, лицо землистое с провалившимися щеками. Временами на него нападает судорожный кашель, тогда он останавливается, вынимает баночку из коричневого стекла, до половины наполненную водой, отвинчивает жестяную крышку и сплевывает туда. Его спутник, герр Шраубиг, никогда не кашляет. Ниссен иногда останавливается у моего открытого окна, заглядывает и осведомляется, как я себя чувствую. Когда я говорю ему, что у меня нет температуры и я прибавляю в весе, он опускает глаза и молча отходит, словно я его обидел. Иногда мне кажется, что этому преждевременно состарившемуся человеку, потерявшему семью и имущество в разбомбленном Ахене, было бы приятно хоть раз услышать, что температура у меня подскочила до 38°. Впрочем, я не хочу сказать ничего плохого о его характере. И все же такой ответ наверняка улучшил бы его самочувствие. Видимо, ни при какой другой болезни люди не сосредоточиваются так на самих себе, не становятся такими мнительными, как при безболезненной чахотке. Никакие другие больные не ощущают так остро свою беду и несправедливость судьбы и не завидуют здоровым так, как те, чьи легкие поражены чахоткой. Или это признак всех болезней?
Итальянец — плечистый, крепкий парень, с виду незаметно, что он туберкулезник. Но однажды утром в коридоре я видел, как он зашатался от слабости и ухватился за стену. Заметив меня, он выпрямился а и прошел мимо почти твердым шагом, даже с улыбкой. При взгляде на него мне представилось одинокое, исхлестанное ветром деревцо на голой скале. Во дворе он гуляет один, ни с кем не общаясь. По-немецки он не знает ни слова, и это отдаляет его от остальных больных. Кроме того, сближению мешают его замкнутость и гордость. Кажется, что он все время тоскует о далеких солнечных краях — о своей Италии. Быть может,-эта тоска гложет его сильнее, чем туберкулезная бацилла, быть может, его организм поддается ей больше, чем палочке Коха.
Четвертый больной в соседней палате, француз Жульен, уже второй месяц лежит в горячке. От него остались кости да кожа. Я видел его в открытую дверь. Два месяца он не брился и оброс густой черной бородой и гривой непокорных волос; одни глаза горят, большие черные глаза, на которые все время навертываются слезы.
В палате напротив обитают женщины. Я вижу их во время воздушной тревоги, когда мы все сидим в подвале на низких скамейках. Одна из них фрау Крегер, тонкая, почти прозрачная, щиколотки у нее не толще моих трех пальцев; при ходьбе ее поддерживают, почти несут. Фрау Рейнгард — толстая, крепкая женщина, горло у нее перевязано, она не говорит, а сипит, потому что дышит через серебряную трубочку: у нее туберкулез горла. Иногда я встречаю красивую фрау Эллер, беженку из Кельна, фрау Браунер, Ризнер и Мюльбах. Других я не знаю по именам, но у них всех есть одна общая черта: они упрямо уверяют себя, что ничем серьезным не больны и согласились лечь в больницу только ради семьи и детей; через неделю-другую они выпишутся отсюда в добром здоровье. Они толкуют между собой о том, как, выздоровев, поедут в деревню или к морю и будут пользоваться всеми радостями жизни, ибо жизнь так коротка и прекрасна. Притом они все до одной обречены (об этом мне проговорилась сестра Маргарет), легкие у них изъедены кавернами, они сухо кашляют, ничего не едят и тают буквально на глазах. Их уже давно бы не было на свете, если бы не неугасимая жажда жить, выдержать, дождаться лучших времен.
А я по-прежнему один в своей палате. Целыми днями лежу у открытого окна и жадно вдыхаю свежий, прохладный воздух. Я уже знаю, что мне нужно хорошо питаться, не унывать, не терзать себя мрачными мыслями, побольше спать. Я уже знаю, зачем мне впрыскивают кальций, знаю хорошие и плохие показания РОЭ, знаю, что такое пневмоторакс, резекция, торакопластика. Знаю, каковы начальные признаки болезни, насколько различны они у отдельных больных и как установить, идет ли болезнь на убыль. Я раздобыл специальную литературу, прочитал биографию Коха, и мне показалось, что я сам веду бесконечную, изнурительную борьбу с коварной бациллой, которая упорно прячется от человеческого глаза и познания.
Я рад, что я один.
Я могу долгими, бесконечными часами неподвижно лежать на спине, вытянув руки вдоль тела, под одеялом, закрыв глаза и дав волю фантазии. В эти часы я мысленно брожу по беспредельным просторам, которые не имеют ничего общего с окружающей унылой обстановкой, они безоблачны и лучезарны, на них царит красота, здоровье, совершенство.
Я уже не боюсь смерти, я преодолел страх и весь проникнут светлым настроением, в моем сердце нет ненависти и боли. Мне кажется, что я временно отошел от стремительного потока жизни, и время для меня остановилось, я никак не воспринимаю окружающее, в душе царят умиротворенность и незыблемое спокойствие.
Словно я брожу где-то вне времени и пространства.
Словно я избавился от бремени собственного тела.
Словно я ни с чем не связан ни мыслями, ни существованием.
Словно я — мир в себе, мир, которому безразличны другие миры.
За окном дозревает осень и вечерний небосвод переодевается в двенадцать нарядов, как кукурузный колос.
Луна — ласковый попутчик, ночь — милосердная мать, а тишина — целительный бальзам. Солнце — ароматный букет, а воздух подобен морской стихии, укрепляющей мое здоровье и силы.
Вы пишете мне из дому, что у вас там льет дождь и в полях воет ветер. А здешние вечера подобны золотистому вину и ночи чисты, как венецианские зеркала.
Вы пишете мне, что зима у вас сырая и снегу выпало больше, чем в прошлом году. А у меня мороз разрисовал окно тонкими узорами — тут и репейник, и хвощ, и сосновая веточка.
Мой единственный собеседник в последние дни — сестра Маргарет. Она часто присаживается ко мне, складывает на коленях мягкие руки, теребит кончик белого передника или моей подушки и улыбается. Когда она гладит меня по голове, это уже не жест сострадания и жалости, как в мои первые ночи, исполненные тоски и отчаяния. В этих поглаживаниях и робость, и застенчивость, и ласка, и любовь.
Маргарет рассказывает мне о себе, я отвечаю ей тем же. Ей двадцать девять лет, у нее пятилетний сын, а муж уже шесть лет на войне. Незадолго до рождества он попал в плен во Франции. Об этом она сказала равнодушно и принесла мне прочитать всю свою любовную переписку с ним до брака.