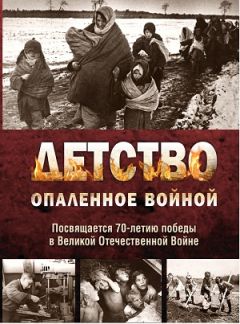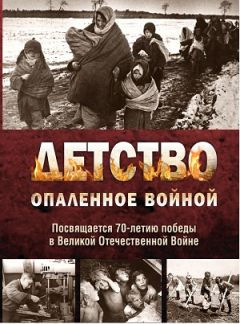Петр Лебеденко - Холодный туман
— Пойдем посидим на диване, Полиночка, — сказал Мезенцев. — Посидим, поговорим.
Она согласилась. Ничего плохого в том, чтобы посидеть на диване, она не видела. Правда, сейчас ей ни о чем не хотелось говорить. Ни о чем. Вот так бы и сидеть молча, чувствуя, как дремота обволакивает все тело. Или нет — надо идти домой. Наверно, Марфа Ивановна уже беспокоится. Куда, мол, Полинка запропала. Да и Виктору Григорьевичу пора отдыхать — он, небось, немало устает на своей работе. Сейчас она объяснит цель своего визита к Мезенцеву, получит от него заверение, что он устроит ее на работу в эскадрилье, и тогда можно идти домой. С этого Полинка и начала, когда Мезенцев заботливо усадил ее на диван и сел рядом, опять очень близко, так, что почти прижался к ней. Она хотела отодвинуться, но Мезенцев, обняв ее за плечи, не дал ей этого сделать. А когда она начала говорить ему о том, что ее привело к нему, он свою ладонь приблизил к губам Полинки и попросил:
— Давай немножко помолчим, Полиночка.
Она умолкла. И совсем не потому, что он попросил ее об этом. Нет. В тот самый миг, когда Мезенцев произносил свои слова, Полинка почувствовала, как его свободная рука с лихорадочной быстротой забегала по ею платью у самой шеи, дрожащие пальцы отыскали верхние пуговицы и тут же горячей ладонью Мезенцев обхватил ее грудь, и сам что-то шептал, о чем-то снова ее упрашивая, но Полинка ничего не понимала: ей вдруг стало жарко, будто куда-то вырвавшийся язык пламени опалил ее с ног до головы, спазмы сдавили ей горло и нечем стало дышать. До этой минуты она пребывала как бы в легком тумане опьянения, но сейчас этот туман мгновенно рассеялся, и вся реальность того, что происходило, вызвала в ней потрясение, какого она давно не испытывала. Она с брезгливостью и негодованием отбросила руку Мезенцева, с силой оттолкнула его самого и встала с дивана. Ее истощенный болезнью мозг, казалось, пылал, словно обожженный горящими углями. А в далеких тайничках сознания кричал и кричал неумолкающий голос: «Я сама во всем виновата! Поверила в его искреннее сочувствие… А он принял меня за шлюху…»
Она быстро пошла к раскрытой в прихожую двери, но на полпути остановилась и, глядя на Мезенцева ненавидящими глазами, проговорила:
— Вы негодяй! Мерзавец! Если бы был жив Федор…
И, не договорив, выбежала из дома.
4Марфа Ивановна говорила Веронике:
— Худо, худо с ней. С того самого вечера, што к начальнику она ходила, опять накатывать стало. Вот сидим тута вдвоем, она говорет и говорет про то да се, а потом я глядь на нее, а она вон в тую точку смотрит и глазочки у ней так заволокет, так заволокет, ну будто туман на тайгу лягет. Я ей: «Ты што, дочка, ты што умолкла? Может, головенка побаливать? Или ишо што? Так ты не моги скрывать, не чужой я тебе человек». А она говорет в ответствие: «Феденька чего-то долго не пишет. Не заболел ли? Я, Марфа Ивановна, — это она так говорет, — Я, Марфа Ивановна, без Феди жить не могу. Не дай Господь што с ним случится, помру я…» А тут шло Дунися цельный месяц весточки ей не шлет, совсем плохо. Я, грешным делом, думаю часом: приехал бы Дунися хоть на недельку, да и сказал ей такие слова: так, мол, и так, жизня не останавливатца, человек рожден чтобы род, значит, человеческий не иссякал, а потому давай поженимся, поскольку Федора не вернешь. А? Ты как насчет этого мыслишь?
Вероника пожала плечами:
— Не знаю, Марфа Ивановна. Помечтать, конечно, можно, да какой прок от такой мечты. Душа у меня болит за Полинку. Думали ведь все: ушла от нее болезнь навсегда, легче будет жить Полинке. А оно, видите, как все повернулось. Рассказывала она вам, что там у начальника случилось?
— Куда там! О том вечере и не заикайся лучше. Веронике Полинка тоже ничего не рассказывала, да та в этом не очень-то и нуждалась. Трудно ли было догадаться, что там у Мезенцева произошло? Не случайно ведь болезнь к ней вернулась. От потрясения, конечно.
Все же однажды, когда Полинка была в здравом рассудке, Вероника спросила у нее напрямик:
— Знаю, что не послушалась ты меня, ходила к Мезенцеву. И давай выкладывай все начистоту — что там было? Марфа Ивановна говорит: Полинка вроде как дочка для меня. Так вот и я тебе скажу — ты для меня тоже не чужая. Как сестра. Веришь?
— Верю, Вероника, — ответила Полинка. — А рассказывать о том, что было у Мезенцева, противно. Да уж расскажу… Показался он мне добрым, участливым человеком. И обнимет вот так, вроде по-отечески, и посмотрит на меня с таким сочувствием, что и душа размягчится. А потом… Мерзость, Вероника. Страшная мерзость. Лапать он меня начал, платье вот здесь расстегнул, и полез. Тогда я и почувствовала, как опалило мой мозг. Было бы под рукой какое-нибудь оружие, убила бы эту сволочь. — Полинка надолго умолкла, о чем-то думая или что-то вспоминая. И вдруг сказала: — А ты ведь о Мезенцеве больше знала, чем тогда мне поведала. Больше ведь?
— Больше, Полинка. Со мной было похуже, тошно вспоминать. И вот что я тебе скажу, хоть со стыда подохну, а придет время — обо всем напишу Петру Никитичу. Но сейчас этого не смогу. А вот когда уйду на фронт, тогда.
— На фронт? — удивилась Полинка. — Ты уйдешь на фронт? Что ты там будешь делать?
— Что делать? Что делают медсестры? То и я буду делать.
— Так то же медсестры. А ты?
— Через месяц я заканчиваю курсы санинструкторов. Через месяц, самое большее — через полтора. И сразу на фронт. Не стану задерживаться ни одного дня.
— А что скажет Валерий?
— Валерий? А мне наплевать, что он скажет. Наплевать, поняла?
— Нет, не поняла.
— Ну так слушай. Как ты думаешь, Валерий хочет уйти на фронт?
— Конечно. Когда еще Федор был жив и был здесь, Валерий часто говорил: «Какого дьявола меня здесь держат! Почему меня не отпускают туда, где сейчас находятся все честные люди — на фронт?»
Вероника так едко усмехнулась, что Полинка не могла не удивиться.
— Где находятся все честные люди. Вот именно — честные, да только не такие, как Валерий. Мастер пускать пыль в глаза доверчивым людям. Он же трус, мой благоверный муж. Гнусный трус. Чтобы как можно дольше остаться здесь, в глубоком тылу, он готов на все. Если надо, он и меня сто раз продаст, лишь бы были покупатели.
— Что ты говоришь, Вероника! — воскликнула Полинка. — Зачем ты так говоришь! Опомнись. Вы же любите друг друга…
— Любили, — тоскливо сказала Вероника. И так же тоскливо улыбнулась: — Да все уходит, как с белых яблонь дым… ну ладно, давай-ка переменим тему. Наши курсы санинструкторов находятся при госпитале. И я только вчера говорила с начальником госпиталя о тебе.
— Обо мне? — удивилась Полинка.
— Да. Подумала: а что, если тебе пойти там поработать? Вначале няней, и в то же время заниматься на курсах медсестер. А потом и медсестрой. Рассказала о тебе начальнику госпиталя — славная женщина этот начальник! — И она ответила: — Пусть приходит хоть сегодня. Ну? Или ты все же решила работать в эскадрилье?
— Нет, нет! — горячо ответила Полинка. — Я очень тебе благодарна. Вероника. Завтра же сведи мена к начальнику госпиталя. Хорошо?
— Договорились. Ты только держись, сестренка. Держись, ладно?
Глава шестая
Благо, ночи были беспросветно темными.
Невидимые тучи шли эшелонами на запад, и под ними такими же эшелонами шли на восток немецкие бомбардировщики. Далекий гул их ноющих моторов точно накатывающийся гром то приближался, вспарывая тишину, то вновь удалялся, затихая в ночном небе.
И тогда опять наступала тишина, нарушаемая лишь встревоженным криком какой-нибудь ночной птицы, истеричным воплем схваченной ужом лягушки да еле слышным всплеском болотной воды под ногами солдат Мельникова, Хаджи и лейтенанта Тополькова. Седьмые сутки они тащили примитивный свой плотик, на котором, то трясясь от лихорадки, то от нее же обливаясь потом, лежал раненный полковник Константин Константинович Строгов, и рядом с ним часами сидела обессиленная от потери крови медсестра Ольга. Часто впадая в долгое забытье, она шепотом разговаривала или сама с собой, или с воображаемой своей мамой, и полковник Строгов, прислушиваясь к ее словам, печально покачивал головой. Сам он от довольно быстро затягивающейся раны страдал всё меньше и меньше, и если бы не эта проклятая лихорадка, выматывающая из него душу, Константин Константинович, пожалуй, чувствовал бы себя лучше.
Двигались они только ночами, а перед рассветом, обнаружив на своем пути какой-нибудь заросший болотным кустарником островок, причаливали к нему и ждали следующей ночи. Днем, в пределах их видимости, бесконечными вереницами шли в глубь России несметные полчища солдат, грохочущие танковые батальоны, машины с автоматчиками, и полковнику Строгову порой казалось, что уже нет никакой войны, всякое сопротивление наших армий подавлено, и фашисты идут на восток лишь затем, чтобы устанавливать по всей стране свой «порядок». В такие минуты отчаяния, которые приходили к Константину Константиновичу все чаще, у него помимо его воли возникала страшная мысль вытащить пистолет и пустить себе пулю в висок, освободившись таким образом и от душевных, и от физических страданий. Что его удерживало от такого поступка полковник и сам не знал. Если он начинал думать о будущем, оно представало перед ним в самом неприглядном свете. Даже если им удастся, наконец, выйти к своим, разве его не ожидали там такие неприятности, о которых даже помыслить страшно. Вернуться с четырьмя человеками, оставшимися от батальона — кто поверит, что он сделал все от него зависящее, чтобы избежать разгрома?!