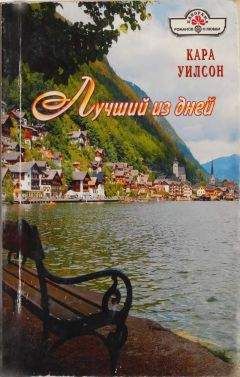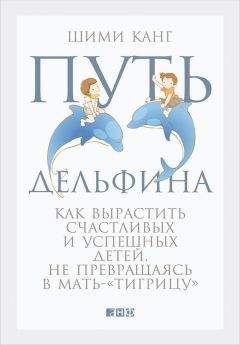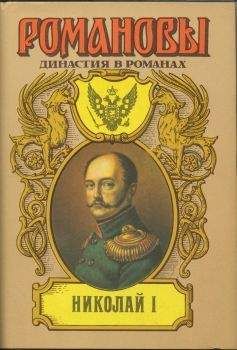Ежи Путрамент - Сентябрь
Жителей этой деревни в округе презрительно называли халупниками — и потому, что халупы, хоть и покосившиеся, составляли их главное достояние, и потому, что из-за недостатка земли они большую часть времени проводили возле своих халуп.
Так получилось, что разразившиеся в тот день события застигли всех жителей деревни на месте. В знойный полдень, жаркий, как в июле, над двумя рядами — из-за отсутствия земли — тесно стоящих хат, над серо-зелеными от мха, прогнившими крышами раздался странный рокот. Вся деревня, услышав этот рев, выбежала на улицу, люди задирали головы, глазели; многие впервые в жизни видели нечто такое. Молодые не скупились на возгласы удивления, старики недоверчиво хмурились, как при виде всякой новинки, а наиболее грамотные стали считать черные крестики и насчитали целых пять.
Самолеты медленно сделали круг, как журавли, которые ищут спокойное место для пристанища, потом построились в ряд, будто дикие гуси, и вовсе исчезли.
Не успели крестьяне вернуться к своим ложкам, горшкам, рисункам, как от воя и свиста, напоминающего шум быстро мчащегося поезда, содрогнулась вся деревня. Теперь уже некогда было разбираться в том, что случилось. Над улицей пронесся один воющий самолет, вслед за ним другой, третий, четвертый и пятый; они летели так низко, что с высоких лип опали верхние уже пожелтевшие листья. Пять раз подряд тень промелькнула перед глазами, будто кто-то, удивившись, с молниеносной быстротой хлопал веками. Возле дома Войцеховских в болотце взметнулся черный фонтан ила, закрякали утки. И несколько раз подряд что-то мягко ударило в соломенные крыши, чмокая, как коровьи лепешки.
Сразу облетели листья с лип, а люди убежали с улицы. Старый Пшевенда, дед Белесого, из-за больных своих ног не мог встать с завалинки и увидел, как лепешка врезалась в крышу соседа и исчезла, подняв легкое облако пыли; почти тотчас распространился странный запашок, словно кто-то зажег огромную спичку, вроде серную. Потом на крыше появилось нечто до того белое, что даже глаза резануло, и затем уже огонь, вроде и обыкновенный, только не сразу вспыхивающий пламенем, а сперва, как колесная мазь, медленно расплывающийся, красными жидкими языками.
По деревне пронесся страшный вопль. Казалось, крик раздул огонь, который теперь ничем не отличался от обычного деревенского пожара, если не считать того, что он занялся не в одной лачуге, а сразу в двадцати. Пламя поднялось огромными, лениво колышущимися клубами, куполами, коронами. Прежде чем люди успели кинуться к колодцам, прежде чем выкатили первые кадки с водой, запылали все шестьдесят блажеевицких дворов. Крестьяне, которые пахали озимь, крестьяне, которые подкапывали картошку, заметив дым, прибежали в деревню, но их родимые гнезда уже превратились в груды докрасна раскаленных бревен.
Одного Яся судьба уберегла от этого зрелища. Господский лес был высокий и старый. Поглощенный очередным опытом, Ясь не обратил внимания на дым; два крылатых плода клена он проткнул посредине тонким сухим стеблем и подбрасывал это сооружение вверх, каждый раз передвигая стебель. Работа не клеилась, самолет кувыркался вокруг своей оси, нужно было продолжать опыты снова и снова.
Ясь услышал рокот самолетов и даже увидел их, однако они летели так высоко, что он не смог бы просто, глядя на них, постичь достижения господ Мессершмита, Юнкерса или Хейнкеля. Он рассчитывал, что самолеты снизятся, а когда они удалились и даже вовсе исчезли, мальчик вздохнул и с мыслью, что убогому и солнце глаза слепит, принялся за дальнейшие опыты.
В ту же минуту до него долетел необычный гром, но на этот раз он ничего не увидел. А пять минут спустя он снова услышал рокот в небе. Самолеты теперь шли ниже, он видел крылья, видел нимбы вокруг носовой части, сверкающие, как над головами святых, видел черные кресты с белыми ободками на бортах.
Их было пять. Ясь сиял от счастья, он таращил глаза так, что у него заболел затылок, и твердил не то самому себе, не то обращаясь к ним:
— Ниже, ниже, еще немножко! Что у вас там на хвосте устроено? Ну, еще немножко. — Он ласково уговаривал их, точно корову. — Ну, пестренькая, шевелись!
Один из самолетов словно услышал его просьбу: не то пестрый, не то грязно-коричневый, он оторвался от остальных, быстро сделал круг и с воем ринулся вниз. Ясь от счастья замахал руками, не замечая, что коровы задрали хвосты и галопом помчались в лес. А Ясь все еще махал руками, видя, как растет сверкающий нимб, а крылья превратились в два дула. Так он и умер, прошитый пулеметной очередью.
14
Цебуля завел разговор о Блажеевицах вечером, когда, удирая с очередных позиций, они проходили мимо деревни, уничтоженной артиллерийским огнем. Еще догорало несколько овинов, в горле оседал запах остывающей гари, даже папироса не могла перебить ее горький, противный привкус. То ли дело Блажеевицы… Как хорошо, что его деревня лежит далеко от границы, а от железной дороги, шоссе, ближайшего города — тоже километров десять с гаком. Одним словом, родным Цебули, все достояние которых (помимо половины морга земли) составляет лачуга, не угрожает судьба здешних крестьян.
А здешние крестьяне стояли возле пепелищ и смотрели на шагавших по дороге солдат. Несчастье словно оглушило людей; они молчали и не шевелились. На краю деревни одна хата сгорела так аккуратно, что печь сохранилась в полной неприкосновенности и над ней торчала труба, костлявая, как скелет. Изможденная женщина наклонилась к черной пасти печи и ставила на только что разведенный огонь горшок с водой. Двое детей уцепились за ее юбку, третий, лет пяти, с радостным криком тащил обугленную доску, чтобы бросить ее в этот семейный очаг.
— Ну, Блажеевицы далеко!.. — снова начал Цебуля, но тотчас замолчал, подбежал к женщине и протянул ей полбуханки хлеба из полученного утром солдатского пайка. Женщина не поблагодарила, она смотрела на него, не понимая.
— Не отставать! — строго прикрикнул на Цебулю Маркевич. Его точила новая боль, не похожая на ту, которая преследовала его в течение последних дней. Маркевич пытался заглушить эту боль, покрикивая на отстающих солдат, пытался убежать от нее: не смотрел в сторону разрушенных усадеб, искал глазами уцелевшие деревья, несожженные хаты, спешил скорее покинуть эту деревню.
Боль не унималась. В течение трех дней их батальон отступал, каждую ночь они рыли окопы, два часа прятались в них от бомбежки, от минометов и от самого худшего — массированного огня артиллерии, а потом отползали с ранеными за ближайший холм, лишь бы убежать от огня, строились в поредевшие колонны, на следующую ночь снова удирали на двадцать километров к северу, и снова повторялось то же самое: рыли окопы, сидели под огнем и так далее.
То, что происходило в первые дни, получило впоследствии в книгах военных историков название «битвы на верхней Варте и Видавке». А в конце концов их отбросили за Лодзь. Дело, конечно, не в названии, а в том, что это были три дня, заполненные страхом и ощущением своей беспомощности.
Роте Дунецкого больше ни разу не довелось идти в атаку. Ни разу больше на них не нападали немцы.
— Как в боксе, — объяснял Дунецкий, — только не по правилам. У немца и вес тяжелее и руки длиннее. К нему не подойдешь: он отскочит, а сам все время лупит тебя прямыми. К черту такую игру.
Маркевич плохо разбирался в боксе, но чувствовал себя именно так, как говорил Дунецкий; будто сразу, в первый же день его рубанули кулаком в челюсть или под ложечку и он отлетел вверх тормашками и потом его били еще и еще, а он машет руками в воздухе, как слепой (хоть разок задеть бы противника, хоть прикоснуться бы к нему!).
В этом сравнении было и нечто другое, другой смысл, с трудом проникавший в сознание Маркевича: его молотили два кулака, а не один. В первый день под Бабицами обнаружилось не только потрясающее превосходство немецких танков. Да, не спорю, танки были страшнее всего, но как расценивать бегство Потаялло со вторым взводом в полном составе; капитан не сказал ни слова, не крикнул нам, не дал сигнала, даже не попытался увести с собой, позаботиться о нашей судьбе… Он потерял голову — Маркевич ради собственного спокойствия хотел как-то по-человечески объяснить поведение, казалось бы, честного Потаялло: он растерялся, увидев такое множество танков; должно быть, шла целая дивизия, о которой теперь шепчутся между собой офицеры, рассказывая, как она рвет в клочья польскую оборону влево от них, на варшавском шоссе. Да, но и в этом случае…
А впрочем, что было потом, во время дурацкой операции двух батальонов против нескольких десятков немцев? Под Бабицами их подвел глупый капитан, командир роты. А здесь распоряжался сам полковник, с виду такой опытный, серьезный. И точно так же потерял голову, удрал, не вспомнив даже о своей головной роте. И еще Дунецкого обругал… За чьи же, черт их возьми, ошибки?