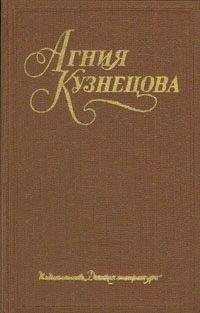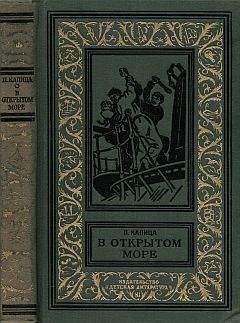Аурел Михале - Тревожные ночи
Потом, гремя висевшими на руках цепями, отец попробовал погладить меня по голове, но не смог: его пальцы были разбиты в кровь во время схватки с жандармами. Тогда он положил на мои плечи кулаки и с грустью прижал меня к своей груди. Цепи, в которые он был закован, упали мне на спину, и я почувствовал их свинцовую тяжесть.
Когда слезы на моих глазах немного просохли, я увидел покрытое синяками, окровавленное лицо отца. Волосы и борода его были всклокочены, а и без того рваная одежда превратилась в сплошные лохмотья. Жандармы жестоко избили его. Однако они не смогли сломить его волю: он по-прежнему держался гордо.
Когда наши взгляды встретились, я заметил, что глаза отца заблестели.
— Был у меня ножичек, Петрикэ, — тепло прошептал он. — Хотел я подарить его тебе на память, но он куда-то исчез…
Услышав это, мама вырвалась из рук тети Лины и подбежала к нам. Она вынула из-за пазухи маленький ножичек. Отец, широко раскрыв глаза, удивленно смотрел на него…
— Отдай ему, — наконец попросил он маму и, повернувшись ко мне, тихо проговорил:
— Береги его, Петрикэ!
Потом, подталкиваемый жандармами, он пошел навстречу первым лучам восходящего солнца. Я остался стоять посреди улицы и глазами, полными слез, смотрел то ему вслед, то на сверкающий в моей руке ножичек… Мама с надрывным Криком и проклятиями снова попыталась вырваться из рук тети Лины, но та крепко держала ее. И она зарыдала от отчаяния и безнадежности…
Спустя две недели в наше село вступили первые бойцы Советской Армии.
Тревожные ночи (Рассказ сержанта)
Линия фронта в Молдавии тянулась по мягким отлогим склонам холмов, опустошенных войной и выжженных зноем. Слева от наших позиций она терялась вдали, по направлению к Геленешти и пойме Серета, справа — поднималась к Тыргул Фрумос и шла вдоль железнодорожного полотна и дороги, ведущей к Подул Илоайей и Яссам. Земля была изрыта снарядами, во всех направлениях изрезана траншеями, пестрела желтыми впадинами окопов, из которых иногда поблескивала на солнце сталь штыков. Между нами и русскими, занимавшими склоны противоположных холмов, лежала ничейная земля, мертвая, мрачная, зловещая. За ней зорко следили: даже птицы не отваживались пролетать над долиной.
Лето было знойное и засушливое. Воздух накалялся с раннего утра, и только к вечеру становилось прохладнее. Хлеба у подножия холмов на наших глазах зрели, ржавели и осыпались. В низине, ближе к тюймам, они всходили вторично, и нивы отливали зеленью от повилики и осота. Кукуруза росла жалкой, с маленькими хилыми початками без зерен, со сморщенными и высохшими листьями, которые свертывались в трубки, как бумага. Земля под ногами сухо потрескивала, словно мы ступали по рассыпанной дроби; частые суховеи поднимали и гнали по холмам клубы глинистой пыли. Проклятия войны и засухи обрушились на страну в августе 1944 года.
— Пришел час нашей погибели, — пророчествовал Чиоча, солдат нашего отделения. — Покарал нас господь!
Когда поднимались песчаные бури, сжигавшие поля и высасывавшие из недр земли ее влагу, Чиоча начинал отбивать поклоны и бормотать молитвы. Так же поступал он, когда русские орудия и «катюши» осыпали снарядами наши позиции. Тогда он читал еще синеватую засаленную книжонку, полученную от одного из попов, которые часто наведывались на передовую.
— Чиоча, не забудь и нас помянуть в своих молитвах, — издевались мы над ним.
Он сердито хмурился, глядя на нас потемневшими, сузившимися глазами, но тут же, забывая о нашем присутствии, снова принимался бормотать молитвы и бить поклоны, пока не кончался обстрел или не стихала буря. Тогда его охватывало странное оцепенение. Ничто не могло вывести Чиочу из этого состояния. Потом бесцветные круглые глаза его постепенно загорались каким-то внутренним огнем — отражением той новой, непонятной нам жизни, которой он теперь жил.
— Чиоча, почему ты стал так усердствовать в молитвах? — как-то спросил я.
— Сам знаешь, — шепнул он мне заговорщицки и пугливо оглянулся, словно выдал какую-то важную тайну.
Чиоче было поручено доставлять на передовую воду, боеприпасы и еду. Перед обедом я нанизывал на ремень наши фляги и вручал их ему — в отделении нас осталось всего шестеро. Он перекидывал ремень через плечо и исчезал во рву, где в густом ракитнике был скрыт колодец. Возле него всегда толпились солдаты из румынских и немецких воинских частей, расположенных в окрестностях. Протолкнуться сквозь эту толчею было делом нелегким. Поэтому мы посылали Чиочу задолго до обеда, когда людей возле колодца было поменьше, а вода в нем — почище. Но в последние дни Чиоча приносил больше грязи, чем воды. Колодец мелел: зной иссушал питавшие его источники, а сотни людей дни и ночи таскали из него воду. Чиоча был слишком неповоротлив, другие опережали его; случалось, мы и вовсе оставались без воды. Я подумывал, не заменить ли Чиочу, но нас было слишком мало, каждый боец был на учете. Да и лучше было, чтобы Чиоча не торчал у нас перед глазами: во время боя он вновь принялся бы за свои поклоны и молитвы, лишая нас последнего мужества. Я боялся, как бы Чиоча всех нас не подвел в конце концов под военно-полевой суд.
Впрочем, на фронте стояло полное затишье. Уже с неделю мы валялись среди кукурузы, установив пулемет у входа в ложбинку, которая спускалась в долину, отделявшую нас от русских. На соседнем холме расположились немецкая пехота и танки. Мы охраняли ложбинку, чтобы русские не просочились между нами и немцами и не зашли в тыл.
Днем мы лежали в окопах, вырытых в кукурузном поле, изнемогая от голода и жажды, задыхаясь от зноя. По вечерам выходили из укрытий и, надавав друг другу тумаков, чтобы поразмять кости, собирались вокруг котла с варевом. Если у нас было что поесть, мы ели не спеша, просиживая у котла часами. После ужина Георге Нана и Константин Жерка оставались дежурить у пулемета, а мы шли печь кукурузу. Чиоча выдолбил в яме углубление со сводом, чтобы разведенный в нем огонь не был виден со стороны русских. И пока он бродил по полю, собирая в походный мешок хилые початки с редкими сморщенными зернами, мы, нарезали штыками кукурузные стебли, закладывали их в очаг и поджигали, чтобы накалить его стенки. Потом выгребали жар и золу и забрасывали внутрь початки. Один из бойцов старшего призыва, Пынзару, мой односельчанин, поворачивал початки шомполом, пока они не подрумянивались. Готовые он выбрасывал на край ямы. Мы хватали руками горячие початки и, сдув с них пепел, жадно ели. Часть початков Пынзару откладывал в каску для дежуривших у пулемета.
Набив животы печеной кукурузой, мы запивали ее водой и посылали Чиочу к колодцу — снова наполнить фляги. Пынзару отправлялся с каской еще теплых початков к пулеметчикам. На поле оставались только я и Александру Кэлин, маленький чернявый солдатик, уроженец области Бэрэган, молчаливый и застенчивый, как девушка. Кэлин был самым младшим в нашем отделении: здесь, на фронте в Молдавии, получил он боевое крещение. Его приводили в ужас жестокости войны и томила любовь, в которой он так и не успел признаться. Я всегда старался держать его возле себя и оберегал, насколько было возможно.
Мы лежали, растянувшись среди кукурузы, устремив глаза на звезды и напряженно вслушиваясь в безмолвие ночи. Нас отделяли от русских только тьма и тишина. Изредка затишье нарушалось пулеметной очередью или орудийными выстрелами со стороны немцев. Выстрелы оставались без ответа. Очевидно, немцы стреляли вслепую, чтобы подбодрить себя. Мы ждали, пока они успокоятся. Затихал и медный шелест кукурузы. Снова водворялась тишина. Тогда я подползал к Александру Кэлину, у которого был чудесный голос, и просил шепотом:
— Спой что-нибудь, Сандуле.
Сандуле не заставлял себя долго просить. Он закидывал руки за голову и начинал петь. Он пел про любовь и печаль; его голос звучал трепетно и нежно, так что слезы готовы были брызнуть из глаз. Я слушал его пение, чуть внятное, как дыхание земли, словно рожденное тишиной этой ночи. Песнь незаметно нарастала, крепла, но лишь настолько, чтобы не выйти за пределы нескольких шагов. Она звенела, тревожная, печальная, как стон, вырвавшийся из глубины страдающей, тоскующей души. Я никогда ни о чем не спрашивал Сандуле. Его пение было красноречивее слов.
Снова все мы на кукурузном поле — нас собрала песнь Александру. Вернулся Чиоча с флягами, наполненными водой. Вместе с Пынзару пришел и капрал Нана, оставив возле пулемета одного Жерку. Они также растянулись на земле рядом с нами, задумчиво глядя на далекие звезды. Все мы были сыты войной по горло, тоска по дому, по своим железными клещами сжимала сердце. Песня смолкла.
— Будь проклята война! — прошипел Нана сквозь стиснутые зубы. — И когда только она кончится!
Мы молчим, думая о том, что давно терзало каждого. Таинственность ночного кукурузного поля, напоминавшего нам о мирном труде, углубляла наши раздумья. Изредка со стороны немцев ночную тьму прорезали огненные точки трассирующих пуль или вспышки ракет. Только эти летающие искры напоминали нам, что мы на фронте. На нашем участке уже много недель царила могильная тишина. Но нам все время чудилось, что эта тишина вот-вот взорвется, и мы с минуты на минуту ждали конца. В обстановке, сложившейся на фронте в августе 1944 года, чувствовалось что-то гнетущее, таилась скрытая угроза. Но в этой угрозе нам чудилось избавление.