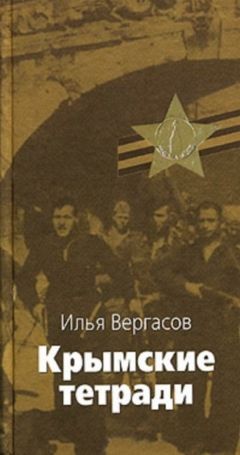Илья Вергасов - Героические были из жизни крымских партизан
— Бери к себе — в лес. Куды же мне деваться?
— Хорошо, а пока разрушай свой механизм.
— Это мы мигом, — заторопился Петр Иванович.
Македонский вбежал в мельницу с большой группой партизан:
— Как, Ванюша?
— Есть мука, Михаил Андреевич… Вот двоих хлопцев ухлопали.
— Заберем — похороним. — Повернулся к партизанам, стоявшим в ожидании его команды: — Нагружаться и галопом по Европам — одна нога здесь, другая за речкой. А ты, Иван, гляди в оба, обеспечь операцию.
— Есть, командир!
С исключительной быстротой мешки с мукой передавались по живой цепи на ту сторону реки. В воде, поддерживая друг друга, плечом к плечу стояли самые сильные бойцы. Мука шла по живому конвейеру…
Из-за поворота выскочила машина, за ней другая… Осветили фарами мельницу, солдаты рассыпались в цепь, открыли стрельбу.
— Ванюша! — Македонский обнял Суполкина. — Задержать. Финал операции в твоих руках… Бери лучших и давай. Продержись минимум пять минут, а потом, маневрируя, уводи за собой карателей.
— Уведу!
Туго приходилось Ивану Суполкину и его команде. Отбиваясь, они отходили от реки в сторону Бахчисарая, вступая в близкий бой с преследователями. Теряли людей. Были убиты румыны из «беспуговичной» команды, пало два бахчисарайца. Удалось команде оторваться от врага лишь на рассвете. В отряд возвращались далеким кружным путем, неся четверых раненых партизан.
Македонский, нервно вслушиваясь в гул боя, уводил в горы партизан, нагруженных до отказа.
Мучной след вел в Большой лес. Утром по нему ориентировались каратели. Напрасные попытки — следы разветвлялись по тропинкам, удваивались, утраивались… удесятерялись… Трофейная мука расходилась по всем партизанским отрядам… Долго вспоминали в крымском лесу «мучную операцию». Тома Апостол ходил гоголем — он стал личностью легендарной, от избытка нерастраченных чувств влюбился в Дусю, которая была на целую голову выше его, а в плечах вдвое шире. Но он был нежен, дарил ей первые весенние цветы — фиалки.
Филипп Филиппович
Наступил апрель. Через горы шла весна. Она долго бушевала в садах Южного берега, захлестнула зеленью предгорные леса и, перешагнув через продутую ветрами холодную яйлу, споро зашагала в таврические степи.
Прошли первые весенние дожди — короткие и стремительные. Снова зашумели переполненные реки, на северных склонах самых высоких гор сходил снег. Легкие туманы поднимались из ущелий и где-то высоко над зубцами гор таяли в небе.
Партизанские стоянки, разбросанные вдоль пенистой Донги, опустели. После «мучной операции» трудно было удерживать людей в землянках и шалашах — уходили на дороги бить врага.
Наш аккуратный штабист — подполковник Алексей Петрович Щетинин — вдруг стал уточнять списки личного состава, выяснять, где у кого семья и в каком количестве.
— Зачем? — спрашивали партизаны.
— Вот-вот будет связь с Севастополем, — уверенно заявлял он. — Будем писать письма в местные военкоматы, обяжем их позаботиться о наших семьях.
Связь, связь! Это слово было у всех на устах. Посматривали на небо, но оно ночами было закрыто плотными облаками — ни один самолет не мог нас разыскать.
Но однажды утром над нашим лесом появился самолет-истребитель. Сначала почти никто не обратил на него внимания — мало ли летало в то время разных самолетов, только они были не наши; но — странно! — летчик упорно кружится над одним районом, то взвывая ввысь, то прижимая машину к верхушкам высоких сосен. Следя за самолетом, мы разглядели на его крыльях звезды.
— Наш! Наш!!!
Мгновенно зажгли сигнальные костры: «Мы здесь! Мы ждем!»
Самолет понял — покачал крыльями.
Над поляной Верхний Аппалах кружила машина, а в это время туда из отрядов бежали люди. Самолет «проутюжил» поляну и взмыл вверх, потом, сделав прощальный круг и еще раз покачав крыльями, лег курсом на Севастополь.
Мы с волнением обсуждали появление истребителя, строили различные догадки, но всем было ясно: нас ищут!
Лес зажил в ожидании необычных событий.
На четвертые сутки в одиннадцать часов дня мы услышали шум мотора, повыскакивали из землянок. Дежурный по штабу заорал как резаный:
— «Кукурузник», мать его сто чертей!
Почти касаясь верхушек сосен, промчался знаменитый биплан, блестя красными звездами на крыльях и фюзеляже.
Сердце так и екнуло: вот так отчаянная башка. Днем, на фанерном «У-2». Да любой немецкий истребитель первой же очередью прошьет и машину и летчика насквозь.
А небо без облачка. Нервно оглядываемся: только бы пронесло!
Самолет еще круг, еще и все ниже, ниже… Неужели приземляться задумал? Куда?
Из последних сил, через чащобы, овраги пробиваемся на Верхний Аппалах. Там площадочка, но очень сомнительно, чтобы на нее можно посадить самолет.
Я выскочил на эту поляну, огляделся: она с подъемом шла в густой лес и на ней даже «У-2» принять нельзя.
А самолет шел на посадку.
Непременно разобьется!
Ниже, еще ниже… Колеса коснулись земли, подпрыгнули; как стрекоза, поскакала машина по выбоинам. Раздался треск… и наступила тишина.
Над полуразбитым самолетом появился юноша в форме морского летчика, улыбаясь ярко-синими глазами. Мы все к нему, подхватили на руки, опустили на землю.
— Товарищи, товарищи!.. — краснея, отбивался он.
Но каждому хотелось прикоснуться к человеку оттуда — с Большой земли.
— Ну, товарищи, разрешите доложить.
К нему подошел Северский. Вытянулся гость перед ним, по-мальчишески отрапортовал:
— Младший лейтенант из Севастополя Герасимов, Филипп Филиппович.
Северский по-отечески улыбнулся:
— Здравствуй, Филипп Филиппович. Цел, невредим?
Засмеялись.
— Качать Филиппа Филипповича!
Переживая минуты радости, мы как-то не заметили, что из второй кабины вылез еще один гость с треугольниками на петлицах. Его взволнованно-виноватое лицо говорило о каком-то несчастье. Он пробился к Герасимову, чуть не плача доложил:
— Рация… Рация вдребезги, товарищ младший лейтенант.
— Чтооо? — Синие глаза Филиппа Филипповича округлились.
Оказалось, что во время отчаянно смелой посадки радист, желая сохранить рацию, взял ее на руки. Она разбилась о борт самолета.
Беда!
Кто узнал о ней, пригорюнился, а главная партизанская масса еще ликовала. Она была разношерстной и разномастной… Люди, перенесшие тяжелую зиму 1941/42 года. Одежда гражданская, армейская, румынская, немецкая… Пилотки, ушанки, папахи, шлемы… Сапоги, ботинки всевозможных фасонов, постолы…
На лица без боли невозможно смотреть. Они, будто зеркало, отражали все, что выпало на долю каждого из нас. Нелегко отличить молодых от старых, женщин от мужчин. Все выглядели стариками — голод не тетка. Ничьи щеки не лоснились от сытости, никто не мог похвастаться хоть капелькой весеннего румянца.
Конечно, каждый по-своему переносил тяжести, страдал, мучился от холода, недоедания и бесконечных маршей во время карательных операций врага, думал о судьбе Севастополя, о своей судьбе, о далеких родных, по ком так тосковали наши сердца. Но я не ошибусь, если скажу, что вера — большая вера в победу — всегда была с нами.
Постепенно молва о беде дошла до всех, всем стало ясно, что героический рейс Филиппа Филипповича ничего не меняет в нашей жизни — как и прежде с Севастополем связи нет. Но не могли мы с этим согласиться, ибо не могли без связи существовать.
Филипп Филиппович, не пряча своего страшного огорчения, все же с какой-то немыслимой надеждой осматривал разбитую машину. Подошел и я, когда-то служивший в войсках ВВС и кое-что понимающий в летном деле.
С мотором все в порядке, бензин есть, но была одна непоправимая беда: при посадке вдребезги разлетелся пропеллер. А без него не взлетишь.
К самолету подходит начштаба, в его глазах что-то обнадеживающее.
— Что, Алексей Петрович? — тороплю я.
— Мне докладывали, что недалеко от переднего края фронта на немецкой стороне упал самолет такого же типа, как этот. Он рухнул, как говорили мне, на густой кизильник. Винт должен быть целым.
— Где это? — с мальчишеской сноровкой бросился к нему молодой летчик.
— Выясним.
Щетинин ушел и через минуту подвел к нам партизана Пономаренко.
— Повтори, что ты мне сказал только что.
— Есть! Самолет лежит за Чайным домиком, пропеллер как штык торчит.
— Дорогу найдешь, сержант?
Я прикидываю: далековато в те края, ох как далековато! Конечно, харчишки соберем, да вот дойдут ли ребята. Больно подбиты все. Чтобы пройти за минимальный срок туда и обратно сто двадцать километров, да по яйле, на которой снег рыхлый; а тут груз — не подушку нести, нужны силенки надежные.
Комиссар Захар Амелинов подумал, сказал: