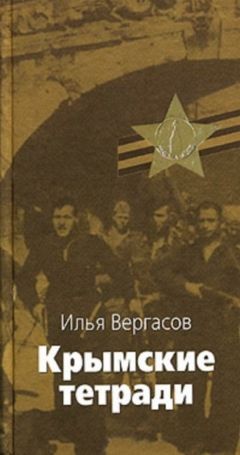Илья Вергасов - Героические были из жизни крымских партизан
— Выкладывай.
— Дело с переодеванием в румын…
— Что? — Я не поверил ушам своим. Появление у немцев в их форме, всякие штучки с проникновением чуть ли не в спальню командующего… До этого ли нам.
Македонский понял мои мысли:
— Все обдумано, никакой авантюры.
— Что обдумано, что ходишь вокруг да около? Докладывай!
— У нас румыны — раз! Сам Тома Апостол — два. Одетых в румынскую форму партизан до взвода наберется.
— Откуда румыны, что за особа Тома Апостол?
Тома Апостол пришел в отряд сложным путем.
Зимой 1942 года румынские дивизии дрались против защитников Севастополя и нас, партизан, что называется, в полную силу. Не только офицеры, но и часть солдат еще верили немцам, в газетах писали о некой Трансднестрии с центром в Одессе, которую якобы «союзники» — немцы — «навечно» оставили под властью «Великого вождя Антонеску».
И все-таки отдельно взятый солдат-румын представлял для нас опасность куда меньшую, чем солдат-немец. Румыну доставалась неудобная и более опасная боевая позиция, он отдыхал в домишках, которыми пренебрегали немцы, из награбленного он получал крохи — одним словом, по всем статьям находился на положении пасынка. Солдат не знал, за что он воюет, во имя чего и кого он обязан класть свои косточки на чужой земле.
Румынские офицеры пьянствовали, занимались рукоприкладством и были старательны только в одном: в грабеже мирного населения.
Солдат вынужден был думать о себе, о своем ненасытном животе, часто даже об одном хлебе насущном, как-то приспосабливаться, самодельничать, полагаться лишь на самого себя.
Ефрейтор Тома Апостол именно и был из таких. Он всю жизнь брил чужие бороды, любил, как и большинство парикмахеров мира, всласть поболтать, был склонен даже к примитивному философствованию. Война была не по нем, и он сделал все, чтобы ни разу не выстрелить из карабина, который таскал с полным пренебрежением.
В деревню Лаки попал он в качестве одного из квартирьеров. Начал жизнь со знакомства с сухим терпким каберне. Налакался с первого часа и продолжал пить до той поры, пока напудренный капитан на глазах всей деревни не отлупил унтера — прямого начальника Тома.
Тома старался не попадаться на глаза капитану. По какой-то счастливой случайности его поселили в доме председателя колхоза Владимира Лели.
Хозяин был человеком наблюдательным и сразу же разобрался в тихом ефрейторе, понял: зла такой солдат никому не сделает, разве силой принудят.
Лели пригрел румына, кормил, поил. А тут совершилось открытие: Тома знал греческий язык, родной язык Лели. За ночь выпили ведро сухого вина, и Тома говорил столько, что можно было буквально утонуть в его краснобайстве. Но Лели был доволен: ефрейтор, оказывается, бывал во многих крымских городах: Симферополе, в Феодосии, Ялте, Бахчисарае, у него отличная память. Все это может пригодиться штабу партизанского района.
Он правильно думал: мы действительно готовили срочную связь с Севастополем, нам нужна была информация о противнике из первых рук. Нас особенно интересовал Первый румынский корпус, его дислокация, тылы, полевая служба. И вот пришел пакет от Македонского, в котором был доклад о Тома Апостоле. Мы приказали румына немедленно доставить в штаб района.
Македонский решил взять Апостола подальше от Лак, чтобы не привлекать к деревне лишнего внимания. Операция была возложена на начальника разведки отряда Михаила Самойленко и партизана Николая Спаи.
Как-то Лели уговорил румына сопровождать его до Керменчика. Тот с удовольствием согласился — он уважал своего гостеприимного хозяина.
Пошли они налегке. Тома забегал то справа, то слева и, как всегда, говорил, говорил…
Навстречу шел высокий черноусый человек… Тома присмирел, но потом успокоился. Он видел этого человека в деревне, да и глаза у него такие добрые.
Черноусый поздоровался с Лели, посмотрел на голубое небо, сказал:
— Хорошо!
— Дышится, — поддакнул Лели.
— Крим — во! — воскликнул Тома.
Спаи вытащил кисет:
— Закурим, солдат?
— Хорошо! — Тома отдал карабин Лели и с охотой крутил большую цигарку. Только было прикурил, как из-за куста вышел вооруженный человек — Михаил Самойленко.
Тома побелел, но выучка все же сказалась: бросился к карабину.
Лели винтовку прижал к себе:
— Тебе она ни к чему, солдат.
Тома стоял как пригвожденный, глухо спросил:
— Ппарти…зааан?
— Спокойно. — Самойленко обшарил его карманы — на всякий случай взял из рук Лели карабин: — Все в норме, Володя! Иди к себе, а у нас путь не близкий.
Тома было бросился за лакским председателем.
— Стой! — приказал Самойленко, оценивающе осмотрел щуплую фигуру румынского ефрейтора, пришибленного неожиданным поворотом своей солдатской судьбы.
Тома от испуга потерял дар речи.
Николай Спаи старался его успокоить: ничего с тобой не случится, останешься целехоньким, но Тома перестал даже понимать по-гречески и только со страхом смотрел на Самойленко.
На первый взгляд Михаил Федорович холодный и строгий. Только те, кто съел с ним, как говорят, пуд соли, знали его доброе сердце.
Не ахти каким ходоком оказался румынский ефрейтор, уже через несколько километров он стал задыхаться, но боялся признаться и безропотно шагал за широкой спиной «домнуле» — он принимал Самойленко за важного партизанского офицера.
Вскарабкались на крутой Кермен. Самойленко снял с плеча карабин Апостола, сказал Спаи:
— Пора подзаправиться чем бог послал.
Дядя Коля ловко развел очаг, в котелке разогрел баранину; буханку лакского хлеба разломил на три равных куска.
— Садись. — Самойленко подозвал к огню румына.
Тома нерешительно топтался на одном месте.
— Ну, кому сказано!
— Домнуле… офицер… Тома — сольдат…
— Я не офицер, а товарищ командир, если хочешь. Садись, раз приглашаю, сказано же… Что, десять раз повторять?
Тома уловил в голосе Самойленко доброжелательные нотки, осторожно присел бочком, улыбнулся:
— Туариш… Тома — туариш…
— Ишь, еще один товарищ отыскался, — хмыкнул Самойленко, протянул румыну ложку, сказал: — Рубай — ешь, значит!
…Тропа сужалась, а ледяной ветер косо сек усталых путников. Короткая желтая куртка и беретик не грели ефрейтора Тома Апостола, ом весь посинел, мелко стучали у него зубы.
— «Язык» может дать дуба, — забеспокоился Спаи.
Самойленко неожиданно сбросил с плеч плащ-палатку, отдал Тома:
— Укутайся!
Ошеломленный румын испуганно уставился на «домнуле», который стоял перед ним в одной лишь стеганой курточке.
Тропа оборвалась перед буйной Качи. Летом речушка тихая, мелкая, как говорят, воробью по колено. Зато сейчас шумит, бурлит, пенится, прет такая силища, что и на ногах удержаться можно лишь опытному ходоку.
Никакой переправы, и Тома смотрел с ужасом на водяную кипень, особенно потрясло его то, что делал сейчас «домнуле» Самойленко, который, стоя под ледяным ветром, в один миг сбросил с себя одежду и остался нагим.
— Раздеться! — приказал он румыну.
Тома уже ничего не соображал, и руки его двигались автоматически. Разделся — маленький, тощенький, с одним лишь животным страхом в глазах.
В воду толкнул его Спаи. Обожгло, конвульсивно сжалось дрожащее тело. Спаи волочил его за собой и буквально вынес на тот берег, а потом снова пошел в воду — за одеждой. Возвращается, высоко подняв узел, смеется, а мускулистое тело жаром пылает. Ну и силен!
Самойленко ловко растирал себя от кончиков пальцев до мочек ушей и требовал этого же от Тома.
Сильное тело Михаила Федоровича раскраснелось. Он быстро оделся и побежал к Тома, который уже на все, в том числе и на собственную жизнь, давно махнул рукой. И если еще шевелился, то только от страха: не вызвать бы гнев «домнуле».
Самойленко бросил румына на плащ-палатку, растянутую на снегу, стал приводить в чувство. Его цепкие руки растирали остывающее тело «языка», и Тома исподволь стал ощущать, как блаженное тепло обволакивает его со всех сторон.
Он увидел глаза «домнуле». Ничего страшного в них не было. И что-то новое, никогда не изведанное, рождалось в сердце маленького румынского парикмахера.
Собрав запас русских слов, которые каким-то чудом отпечатались в его памяти, он крикнул:
— Гитлер — сволош! Антонеску — гав, гав!.. Я — туариш Тома Апостол.
Дали ему пару глотков спирта, еще раз покормили, напоили кипятком.
— А теперь марш! — приказал Самойленко.
— Марш-марш, туариш Тома! — Апостол пытался шагать в ногу с «домнуле», который совсем ему теперь был не страшен.
Тома был наблюдательным и многое смог рассказать в нашем штабе. То, что он рассказал нам, имело значение не только для партизанского движения, но и для Севастополя.