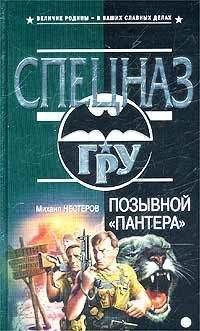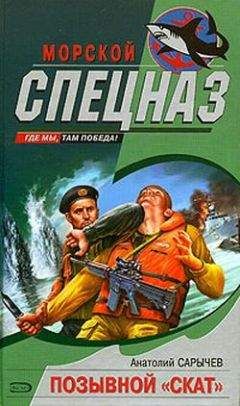Иван Чигринов - Свои и чужие
— Пришёл проведать, как ты тут, — сказал Нарчук, садясь рядом с Афонченко на корягу. — Вижу, не очень стережёшься.
— Думаешь, подкрадётся кто? — поглядел на него Данила и улыбнулся.
— А ты уже исключаешь подобную возможность?
— Ну!…— пожал плечами Афонченко. — Ежели днём, так навряд ли. А вот ночью… Тут уж никому не прикажешь, а тем более не запретишь, — что в одиночку поделать. Сам небось один сегодня ночевал в своём шалаше?
— Один.
— Ну вот.
— Что нового тут, на переднем крае?
— Да вроде ничего. Гуфельд уже явился в свою комендатуру. Был с ним и тот, другой немец, но быстро умотал.
— Фон Файт?
— Да, фон Файт. Уехал куда-то. Видел, как к крыльцу подкатила легковая машина, не моя ли «эмка», которую немцы подстрелили, и он в неё уселся.
— Наверно, это все-таки другая машина. Вряд ли возможно такое совпадение. Вас же обстреляли далеко отсюда.
— Ну и что? Могли подремонтировать и в Бабиновичи доставить.
— Вряд ли, — вяло возразил Нарчук, хотя никакого значения это обстоятельство не имело: разве не все равно, на чьей «эмке» теперь раскатывали по местечку немцы?
Они помолчали немного, потом Афонченко сказал:
— Вот я наблюдаю уже который час за этим фон Фай-том и никак не соображу — кто он на самом деле и почему так часто отлучается из местечка, подолгу не задерживается тут, в Бабиновичах, он просто случайно. Наездом. Как думаешь?
— Может быть, и так.
— Ну вот. А теперь сам прикинь, чем может заниматься этот фон Файт, хотя и выдаёт себя за переводчика?
— Кто ж его знает!
— А неплохо бы разузнать.
— Может, и разузнаем ещё. Тем более что фамилию его мы установили. Значит, можно пойти в этом направлении и дальше.
— У меня из головы не выходит тот разговор со студянковским жителем. Помнишь, я тебе говорил?
— С Евдокимом?
— Да.
Действительно, Афонченко уже рассказывал командиру отряда о странном разговоре в Студянке.
По его словам выходило, что фон Файт, заглянув однажды в гости к деревенскому мужику Евдокиму, затеял непонятную беседу… В том, что немецкий офицер, который, кстати, довольно часто одевался в штатское, попал именно к Евдокиму, не было ничего особенного — у того буйно раскинулся за домом, пожалуй, самый лучший во всей большой деревне сад, и хоть кого мог соблазнить ядрёными яблоками да грушами, а вот беседа, какую фон Файт завёл вдруг там же, в саду, с пожилым крестьянином, встреченным впервые, была способна поразить своей необычностью кого угодно. Поэтому Евдоким и рассказал о ней Даниле Афонченко, когда тот попросился однажды в Студянке на ночлег. Начал немец с того, что назвал себя, сказал, кто он и откуда. Мол, фон Файт, имеет баронский титул, хотя и не придаёт ему большого значения, потому что в Германии теперь не это считается главным. Объяснил, разумеется, и то, откуда знает русский язык — уже в советское время долго служил в Москве. Хорошо знаком с жизнью России. И теперь находится здесь как специалист по русскому вопросу. Но войны с Россией он не хотел, даже отговаривал германские власти начинать её, так как убеждён, что победить русских невозможно. Словом, представал перед незнакомым деревенским человеком едва ли не сторонником нашей власти. И говорил обо всем так, словно хотел угодить в чем-то Евдокиму, который от удивления только молча таращил глаза, боясь даже кивнуть головой. Беседа та запала в душу не только Евдокиму. Не давала она покоя и Даниле Афонченко, благо теперь ему часто приходилось видеть фон Файта сквозь окуляр артиллерийской буссоли.
Буссоль эту партизаны отыскали на берегу того же Па-лужа, где попался им станковый пулемёт, который Павел Черногузов не успел довести до ума и оставил в брошенной землянке на старой гари. Теперь буссоль стояла на треноге недалеко от шалаша, и в окуляр её можно было наблюдать за местечком, за всем, что там делается. Тем более что шалаш был поставлен на небольшой возвышенности, а само местечко находилось ниже. Сперва ребята держали буссоль словно из великого одолжения или просто из любопытства как дорогую, но ни к чему не пригодную игрушку, шутили, что, мол, эта штука понадобится, когда заимеем собственную пушку, даже кто-то унёс её из землянки тогда, во время отступления, а тут, в Цыкунах, вдруг додумались, что её можно использовать вместо бинокля, и тут же устроили наблюдательный пункт.
— Так ты, Данила, все ещё не потерял надежды завербовать фон Файта? — с усмешкой спросил Нарчук.
— Ну, завербовать не завербовать, а попытаться стоит.
— Комиссар не верит в эту затею. Говорит, не то время, чтобы с немцами начинать подобные разговоры. Они ещё не готовы. У них покуда дым в голове от побед. Надо, чтобы немец начал пованивать, тогда-то он и станет сговорчивым.
— Мало ли что бывает. Тут, как я вижу, два сапога пара. Гуфельд чудака из себя строит, хотя на самом деле — обыкновенный самодур, а барон этот другим способом души человеческие вередит. Тоже, видать, себе на уме человек.
С осторожностью разгибая спину, Нарчук поднялся с коряги, постоял немного у огня, погрел руки, потёр их друг о дружку, будто унимая жар, и двинулся к наблюдательному пункту. За ним, выждав некоторое время, пошёл и Данила Афонченко, видно, подумав, что не стоит отпускать командира одного на опушку.
Припав к холодному окуляру буссоли, Митрофан Онуфриевич глянул на местечко и первым делом увидел поверх заснеженных крыш купола церкви. Их было пять — один, повыше, — посредине, четыре остальных — по бокам. Напоминали они обыкновенные луковицы, которые непомерно выросли за лето на огороде, и теперь их как будто кто вздымал над резной крышей, пристроив наперёд на их маковках православные кресты. Ниже куполов, на уровне крыши, чернели липы, которые толпились вокруг церкви, и на ветвях их, там и сям, ещё дрожали на ветру неопавшие и не оборванные ветром листья. Над липами взлетали и тут же падали обратно бесстрашные вороны. А за церковью па земле лежал снег, и от него, казалось, светлей делалось небо, которое до сих пор не очистилось от туч. Нарчук знал, как поворачивать буссоль, ничего сложного не было в этом механизме, при одном прикосновении он легко подавался во все стороны, однако он не торопился менять эту картину, держал буссоль в прежнем положении, словно не мог оторваться от знакомых очертаний церкви.
На местечковой площади командира партизанского отряда ждало совсем иное зрелище. Митрофан Онуфриевич знал об этом и, может быть, поэтому тоже не торопился переводить буссоль, которая бесстрастно, как объективный свидетель, показывала все подряд и без разбора. Но вот он все-таки заставил себя с большим напряжением сделать это и через стекла буссоли сразу же упёрся взглядом в новую, хорошо обструганную перекладину с зацепленной верёвочной петлёй, в которой с уроненной набок головой висело человеческое тело. Это была женщина. Ветер, особенно бесившийся и сегодня тоже но перестававший трепать и крутить все, что поддавалось его порывам, повернул повешенную лицом к местечковым ларькам, и Нарчуку отсюда были видны сквозь порванное платье спина её и голые ноги.
Митрофан Онуфриевич не первый раз видел так, как теперь, и местечковую церковь в Бабиновичах с её куполами-луковицами, и базарную площадь, от которой разбегались во все стороны песчаные дороги с её древними еврейскими лавчонками, которые в своё время перешли потребкооперации, и эту виселицу, где уже который день качалась в толстой верёвочной петле незнакомая девушка. Партизаны не видели, как её вешали. Не знали, кто она и за что повешена. Данила Афонченко увидел виселицу в буссоль только вечером того дня, когда её казнили и когда на площади не осталось ни немцев, ни местечковцев, согнанных туда на устрашающее зрелище. Понятно, что командир отряда, дождавшись сумерек, направил в Бабиновичи своего человека. Им был Лазарь Кузьмин, до утра он сумел разузнать о повешенной если не все, что было возможно, то много чего, что знали о ней люди в местечке.
Девушку эту, советскую разведчицу, немцы обнаружили случайно, с нечаянной помощью местечковых мальчишек, но дальше дело у них не пошло — та никого и ничего не выдала на допросе в Крутогорье, куда её увезли после ареста; напрасно в жандармерии надеялись, что девушка невыдержит, что у неё «развяжется» язык перед казнью; она до конца упрямо молчала; так её, никому неизвестную, и повесили в Бабиновичах, привезя обратно из Крутогорья. И никто не знал, настоящее ли это имя — Марыля, и эта фамилия — Женченко, под которой она жила, считай, всю осень в Бабиновичах и под которой проходила на допросе в Крутогорье.
Нарчук уже не надеялся, что найдутся люди, помогшие ей обосноваться в Бабиновичах. И был сильно потрясён, что советскую разведчицу казнили у них под боком, в полутора километрах от Цыкунов, где вот уже который день размещался их партизанский отряд.
Отступив от буссоли, Нарчук поглядел на Афонченко, потёр веки, будто врачуя усталые глаза, и с горечью сказал: