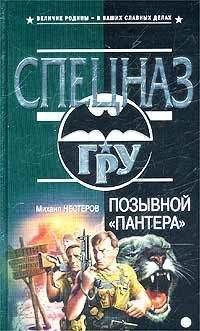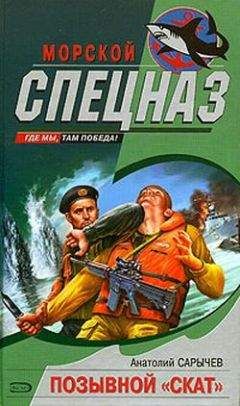Иван Чигринов - Свои и чужие
Давними спутниками Нарчука в отряде теперь, кроме комиссара Баранова и Павла Черногузова, были Харитон Дорошенко и Лазарь Кузьмин. Дорошенко работал до войны директором средней школы в городе. Кузьмин — секретарём райисполкома. Людей этих командир отряда хорошо знал и уважал так же, как уважал и председателя райпотребсоюза Данилу Афонченко, который присоединился к отряду позже, когда крутогорские партизаны вернулись из далёкого рейда. Теперь тот поход за тридевять земель, чтобы взорвать несуществующие мосты на далёких реках, почему-то все без исключения называли этим словечком — рейд, будто в нем было нечто скрытое, недоступное другим, кто не принимал участия в походе, кто не был в том рейде.
Из всех, кто присоединился к отряду в последнее время, наиболее основательным человеком оказался Данила Афонченко. Даже не основательным — не совсем то слово. Была у Данилы Алексеевича некая недокучливая общительность, вернее, соучастие, которое не только не становилось в тягость кому-то, а одним уже своим проявлением делало этого человека незаменимым во всем, — касалось ли это обычной, повседневной жизни или иной сферы, в том числе и боевой деятельности партизан. Без Афонченко, пока он не повредил себе ногу, не только не предпринималась, но и не задумывалась ни одна операция, ни одна более или менее значительная вылазка, которая могла иметь значение для нормальной жизни отряда. Он и сам не любил засиживаться в лесу, часто ходил на задания. И вот теперь вынужден был уже несколько недель караулить партизанский шалаш на краю Цыкунов.
Между тем Данила Афонченко в августе ещё не собирался идти в партизаны. Его не включили ни в состав подпольного райкома, ни в список партизанского отряда. В тот день, когда немецкие танки прорвали оборонительный рубеж возле Церковища, председатель райпотребсоюза был направлен райкомом партии в качестве уполномоченного по эвакуации колхозного имущества в прифронтовые хозяйства. Легковая автомашина, в которой ехал Афонченко и которую вёл Иван Рой, как раз и наскочила на те первые танки, что после боя вытянулись в колонну и двигались по дороге в Крутогорье. «Эмку» в клубах пыли немецкие танкисты заметили издалека, потому что передний танк вдруг остановился и из него через некоторое время ударил очередями, раз и другой, пулемёт, которого ни шофёр, ни его пассажир за гулом мотора не услышали. За то недолгое время, пока колонна стояла на дороге, видимо, поджидая автомашину, мчащуюся им навстречу, расстояние между ними успело сократиться, и нули попали в передние колёса. Но Иван Рой, казалось, не почувствовал этого, надо думать потому, что он так же, как и Афонченко, не понял, что происходит вообще и чьи танки неожиданно появились на дороге, и, только когда после следующей пулемётной очереди с треском раскололось боковое стекло, начал тормозить «эмку», которая вдруг перестала ему подчиняться.
— Что это? — крикнул с заднего сиденья Афонченко, как будто не надеясь, что шофёр услышит его.
Но тот уже остановил машину и абсолютно спокойно, словно никакой опасности не было, повернулся лицом к Афонченко и тихо произнёс:
— Немцы, Данила Алексеевич!… Надо спасаться!… С левой стороны, за небольшим полем, виднелся лес и к нему от дороги вела глубокая канава, по обе стороны которой высилась грудами свежая земля. Канаву Афонченко приметил сразу, смекнув, что по ней можно будет, пригибаясь, добраться до леса, пока немцы успеют доехать на танках до того места, где остановилась «эмка» и получат таким образом возможность стрелять вдогонку. Но до канавы было ещё метров тридцать чистого поля. Опасность большая, но другого выхода ни Афонченко, ни Рой не видели.
Видимо, немцы тем временем подумали, что несколько очередей, пущенных из пулемёта, хватило, чтобы не только подбить автомашину, но и уничтожить людей, и перестали стрелять; в переднем танке поднялась крышка люка и высунулся по пояс человек. Одет он был в чёрное, однако лица нельзя было рассмотреть, да и не хватало на это времени.
Афонченко только удивился, почему немцы стоят на месте и не пытаются приблизиться к подбитой автомашине, непонятным оставалось и то, почему они вообще остановились, ведь могли бы просто раздавить «эмку» гусеницами.
Задержка эта обернулась на пользу путникам, попавшим в беду. Словно улучив момент, который больше не повторится, когда нельзя оставаться в машине и промедлить хотя бы минуту, Афонченко спросил шофёра:
— Видишь канаву?
— Да.
— Ныряем туда. Но подожди, сделаем это вместе, поодиночке нельзя. Если первому повезёт, так по второму обязательно попадут. Подготовятся и попадут. Ну, открывай свою дверцу. Так. А теперь — я. Марш!
Немцы явно не ждали от русских такой прыти, не верили, что кто-то остался в живых в обстрелянной машине. Поэтому пулемёт из переднего танка застрочил, сбивая насыпь, только когда Афонченко и Рой упали друг на друга на дне канавы. Остальное было для беглецов, как говорится, делом ног, — все время пригибаясь, почти на карачках, бежали они, задыхаясь, к лесу и с ужасом думали, что немцы наконец догадаются открыть огонь вдоль канавы, им в спину, как по открытым мишеням. Однако ничего подобного не случилось. Немецкие танки не двинулись с места, как будто собирались стоять долго; по крайней мере, когда Афонченко и Рой через несколько минут нелёгкого бега по канаве оказались живые-здоровые в лесу, танки по-прежнему стояли на взгорке и в переднем все ещё маячила чёрная фигура.
Первую ночь в оккупации Данила с Иваном провели в том лесу, куда привела их полевая канава. Две следующие — у знакомого мужика поблизости от Крутогорья, потом перебрались в город и там, прячась, провели несколько недель, пока не поняли, что дольше оставаться в окружении врагов нельзя: либо надо выходить на люди, и неизвестно, чем все это кончится, либо подаваться в лес. И однажды ночью они покинули город. Митрофан Нарчук был рад, когда Данила Афонченко и Рой вскоре нашли отряд, стали партизанить.
Но напрасно теперь, идучи к шалашу, Нарчук думал, что там сегодня, чтобы не таскаться по топкому болоту в темноте, заночевал ещё кто-нибудь из партизан. Возле костра, в котором горели дубовые плашки, одиноко сидел на коряге Афонченко. Дыма над костром не было никакого, только весёлое пламя тянулось вверх ясными языками, словно пыталось пробиться сквозь невидимую человеческому глазу преграду. Это были именно партизанские дрова, дубовые плашки, — они почти не давали дыма, только вначале, пока разгорались, а потом подолгу горели, посылая во все стороны устойчивый жар. Такие плашки лежали и возле того шалаша, что был на острове. Партизаны наготовили их впрок, для чего пришлось вырубить в Цыкунах немало дубков. Зато жечь их можно было даже днём и не бояться, что повалит густой дым, видный издалека.
— Пришёл проведать, как ты тут, — сказал Нарчук, садясь рядом с Афонченко на корягу. — Вижу, не очень стережёшься.
— Думаешь, подкрадётся кто? — поглядел на него Данила и улыбнулся.
— А ты уже исключаешь подобную возможность?
— Ну!…— пожал плечами Афонченко. — Ежели днём, так навряд ли. А вот ночью… Тут уж никому не прикажешь, а тем более не запретишь, — что в одиночку поделать. Сам небось один сегодня ночевал в своём шалаше?
— Один.
— Ну вот.
— Что нового тут, на переднем крае?
— Да вроде ничего. Гуфельд уже явился в свою комендатуру. Был с ним и тот, другой немец, но быстро умотал.
— Фон Файт?
— Да, фон Файт. Уехал куда-то. Видел, как к крыльцу подкатила легковая машина, не моя ли «эмка», которую немцы подстрелили, и он в неё уселся.
— Наверно, это все-таки другая машина. Вряд ли возможно такое совпадение. Вас же обстреляли далеко отсюда.
— Ну и что? Могли подремонтировать и в Бабиновичи доставить.
— Вряд ли, — вяло возразил Нарчук, хотя никакого значения это обстоятельство не имело: разве не все равно, на чьей «эмке» теперь раскатывали по местечку немцы?
Они помолчали немного, потом Афонченко сказал:
— Вот я наблюдаю уже который час за этим фон Фай-том и никак не соображу — кто он на самом деле и почему так часто отлучается из местечка, подолгу не задерживается тут, в Бабиновичах, он просто случайно. Наездом. Как думаешь?
— Может быть, и так.
— Ну вот. А теперь сам прикинь, чем может заниматься этот фон Файт, хотя и выдаёт себя за переводчика?
— Кто ж его знает!
— А неплохо бы разузнать.
— Может, и разузнаем ещё. Тем более что фамилию его мы установили. Значит, можно пойти в этом направлении и дальше.
— У меня из головы не выходит тот разговор со студянковским жителем. Помнишь, я тебе говорил?
— С Евдокимом?
— Да.
Действительно, Афонченко уже рассказывал командиру отряда о странном разговоре в Студянке.
По его словам выходило, что фон Файт, заглянув однажды в гости к деревенскому мужику Евдокиму, затеял непонятную беседу… В том, что немецкий офицер, который, кстати, довольно часто одевался в штатское, попал именно к Евдокиму, не было ничего особенного — у того буйно раскинулся за домом, пожалуй, самый лучший во всей большой деревне сад, и хоть кого мог соблазнить ядрёными яблоками да грушами, а вот беседа, какую фон Файт завёл вдруг там же, в саду, с пожилым крестьянином, встреченным впервые, была способна поразить своей необычностью кого угодно. Поэтому Евдоким и рассказал о ней Даниле Афонченко, когда тот попросился однажды в Студянке на ночлег. Начал немец с того, что назвал себя, сказал, кто он и откуда. Мол, фон Файт, имеет баронский титул, хотя и не придаёт ему большого значения, потому что в Германии теперь не это считается главным. Объяснил, разумеется, и то, откуда знает русский язык — уже в советское время долго служил в Москве. Хорошо знаком с жизнью России. И теперь находится здесь как специалист по русскому вопросу. Но войны с Россией он не хотел, даже отговаривал германские власти начинать её, так как убеждён, что победить русских невозможно. Словом, представал перед незнакомым деревенским человеком едва ли не сторонником нашей власти. И говорил обо всем так, словно хотел угодить в чем-то Евдокиму, который от удивления только молча таращил глаза, боясь даже кивнуть головой. Беседа та запала в душу не только Евдокиму. Не давала она покоя и Даниле Афонченко, благо теперь ему часто приходилось видеть фон Файта сквозь окуляр артиллерийской буссоли.