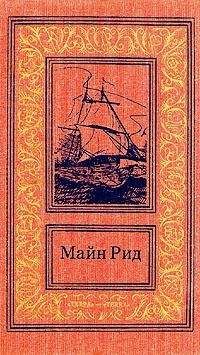Карел Птачник - Год рождения 1921
Персонал завода должен был покинуть территорию уже при «фораларме» и удалиться минимум на километр, потому что заводские бомбоубежища не вмещали и сотой доли многотысячной массы людей, присланных восстанавливать завод.
Как только начинали выть сирены, на заводе раздавался топот тысяч ног: люди бежали, пыхтя и спотыкаясь, мчались со всех ног. Пленные французы неслись как угорелые, без конвоя, украинцы топали в тяжелых деревянных башмаках, заключенные спешили под надзором веркшуцовцев, рабочие катили на велосипедах, ехали на грузовиках, автобусах, повозках, тракторных прицепах и даже аккумуляторных тележках — прыгали и цеплялись на всякий вид транспорта, а уже взобравшиеся туда подсаживали их, подхватывали за руки, за ноги, за головы. Дорога, как муравейник, кишела людьми, спешившими добраться до бомбоубежища в песчаном карьере или выбраться в открытое поле и в дальний лесок.
Позади завода, за палаточным лагерем, который здесь срочно построили для евреев из Бухенвальда, находился большой песчаный карьер, где все время прокладывали новые штольни. Глубина карьера достигала двадцати метров, на дно его вели две крутые деревянные лестницы. Убежищ там было три — двухметровые штольни, укрепленные толстыми бревнами и балками. В штольнях вдоль стен стояли скамейки и под потолком висели электролампочки. В глубину штольни вела толстая вентиляционная труба, по которой поступал свежий воздух. Длина каждой такой штольни была метров сто, их соединяли ходы сообщения. Во время тревоги все эти убежища бывали битком набиты солдатами, детьми из деревни, женщинами и стариками, украинцами с синей нагрудной нашивкой «Ост», поляками с буквой «П», черноволосыми говорливыми французами, итальянцами, заключенными, пленными и чехами из трудовых рот. Уже через полчаса в глубине штольни становилось нестерпимо душно, воздуха не хватало, люди покрывались потом и тяжело дышали, в тесноте каждое движение утомляло. Поэтому большинство рабочих предпочитало во время налетов уходить в открытое поле, тянувшееся до самого горизонта.
Еще до того, как сирены объявляли тревогу, на заводе и около него, вдоль дорог и даже в полях устраивалась дымовая завеса: в сухую безветренную погоду завод и окрестности быстро окутывались вонючим белым дымом. Наиболее примитивное устройство для дымовой завесы представляло собой проволочный стояк, наполненный бумажными пакетами с загадочным содержимым. Пакеты поджигались снизу и начинали тлеть, валил густой дым. Более сложное устройство состояло из канистры с вонючей жидкостью, соединительной трубки, жестяного зонтика и баллона со сжатым воздухом. Солдаты, обслуживавшие эти устройства, приезжали на велосипедах или мотоциклах, соединяли канистру с баллоном, Сжатый воздух выгонял жидкость в трубку, она разбрызгивалась о жестяной зонтик и тотчас превращалась в клубы дыма.
Вблизи заводской ограды был устроен лагерь для семи тысяч словацких, румынских и венгерских евреев из Бухенвальда. Там стояли большие брезентовые палатки, на площадках между ними виднелись жестяные желобы умывалок, кругом проволочные заграждения и вышки для часовых; на каждой вышке мощный прожектор и пулемет.
Евреев привели однажды утром по шоссе. Они шли тесными рядами, колонна за колонной, пыль, поднятая тысячами ног, тянулась за ними, как грозовая туча. На другой же день прибывших погнали на работу. На них была арестантская одежда — полосатые бумажные штаны и куртки, деревянная обувь, на бритых головах полосатые шапочки. Среди рядовых эсэсовцев, которые немилосердно били заключенных ногами и прикладами, было немало немцев из Словакии, хорошо говоривших по-словацки. Кроме солдат, за каждой колонной наблюдал «форарбейтер» — заключенный, подменявший конвойного и относившийся к своим соплеменникам ничуть не лучше эсэсовцев. «Доверенный» — капо — был обычно ариец — голландец, француз или немец, который целый день точил лясы с конвойными и даже не притворялся, что работает.
Евреев посылали на самые тяжелые работы — разгружать и носить мешки с цементом, шпалы, балки, землю, камни. Нестерпимо было смотреть на этих истощенных людей, видеть, как они, спотыкаясь под ударами эсэсовцев, таскают тяжести, способные раздавить их. Заключенные работали с поистине нечеловеческим напряжением сил. Приблизиться к ним и передать что-нибудь съестное было совершенно невозможно, а ведь даже сухой кусок хлеба стал бы благодеянием для этих измученных людей. Гонзик тщетно пытался поговорить с ними, надеясь разузнать об отце.
— Да вряд ли это возможно; — скептически заметил Карел. — Ведь Бухенвальд — это целый город, заключенных там, говорят, несколько тысяч. У нас в деревне один парень попался при переходе границы и сидел за это в Бухенвальде. Просидел он там год и просто чудом вернулся домой: выпустили несколько сотен человек по случаю какого-то торжества, уж не знаю, почему они это сделали. Так вот, этот парень иногда рассказывал о Бухенвальде, но очень неохотно, потому что подписал там бумагу, что будет молчать, и боялся, как бы ею не упекли обратно. Страшно было слушать! У людей там нет имен, только номера, и каждый день вычеркивают несколько сотен номеров. Как списанный инвентарь.
Кованда отер руки о фартук.
— Такой лагерь мог придумать только ненормальный человек, — сказал он. — Нет, что я говорю, зверь! Этак мучить и губить людей! Бывало прежде что-нибудь подобное на свете? Отвечай, ты, образованный! — обратился он к Пепику.
Пепик сел на землю и оперся спиной о штабель железных листов. Он хотел заговорить, но лишь судорожно раскашлялся.
— Найдется у кого-нибудь покурить? — спросил он. — Может, мне от этого станет легче.
— Не сигарету тебе надо, а мамину титьку, — напустился на него Кованда. — Никогда еще я не слыхивал, чтобы куренье помогало от кашля!
Мирек и Гонзик стояли рядом, озабоченно глядя на Пепика.
— Завтра ты не пойдешь на работу, а покажешься врачу, — сердито сказал Мирек. — Надоело слушать вечное твое кхеканье. Надо лечиться, и все тут.
Пепик закурил, кашель немного успокоился.
— Пустяки, — устало сказал Пепик. — Я до самой смерти буду кашлять. Ничего у меня и доктор не найдет. О чем ты меня спрашивал?
— О царствии небесном, — сказал Кованда. — Оставим это на потом. Вон, видишь, идет господин доверенный…
Капитан Кизер освободил Олина от всякой работы и сделал его чем-то вроде своего адъютанта. Каждый день они вместе ездили по рабочим участкам. Кизер таскал Олина от одной бригады к другой, всюду они ненадолго останавливались, справлялись, как идет работа, одних хвалили, другим делали замечания, потом обходили конторы. Кизеру не понравилось, что Гонзика взяли в контору фирмы Дикергоф и Видман. Капитан хотел было отправить его обратно к малярам, но, встретив решительное противодействие Лемана и Трибе, дал свое благосклонное согласие.
Олин ходил по заводу в выходной форменке. Большинство чехов демонстративно не замечали его и даже не старались при нем делать вид, что работают. Когда он подошел к малярам, ребята никак не реагировали на появление фербиндунгсмана и остались сидеть на своих местах, рядом с Гонзиком, забежавшим к ним по дороге. Олин поздоровался, а они вопросительно взглянули на него, но так как он стоял прямо против солнца, то все, подняв головы, сощурились от слепящих лучей, сделали гримасу и тотчас снова опустили головы.
— Привет, ребята, — сказал Олин. — Как поживаете?
Кованда презрительно сплюнул.
— Спасибо за вниманьице, хуже некуда. А почему вы изволите интересоваться?
— А его послали сюда узнать наше мнение насчет работы и вообще наше настроение, — сказал Мирек и лег на спину. — Он теперь вроде сестры из Красного Креста или дамы-благотворительницы.
— Ишь ты! — удивился Кованда. — Так вы им там скажите, сестрица, что мы поживаем очень хорошо. Лучше некуда. Кланяйтесь от нас герру капитану, передайте, что мы в нем души не чаем.
Олин закурил сигарету и далеко отбросил спичку.
— Все паясничаете, ослы. Напрасно. Вам меня не обозлить. Лучше бы работали как следует. Все фирмы жалуются на чешских работничков: они, мол, только лодырничают и саботируют. Капитан собирается снизить вам суточные.
— Сразу видно, что герр капитан заботится о нас вовсю. Эти самые полторы марки, что нам выдают наличными, — одно искушение, поневоле начинаешь сорить деньгами. Пусть лучше их посылают нашим семьям вместе с жалованьем. Мне вот старуха пишет, что ей теперь выдают девяносто пять марок, а прежде платили сто пятьдесят.
— И то много за твою работу, — холодно сказал Олин. — Ты больше не заработал.
— Интересно, сколько получаешь ты? — усмехнулся Мирек. — Тебе, видно, жаловаться не на что.
— Ему положено две получки, — сказал, вставая, Кованда. — Одну за то, что он образцовый работник, другую за то, что капитанов холуй. За это в райхе здорово платят.