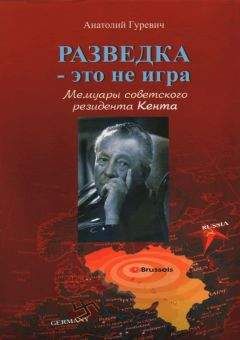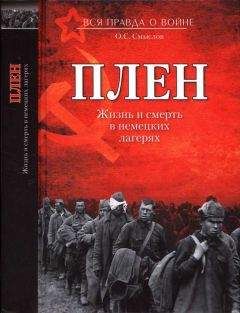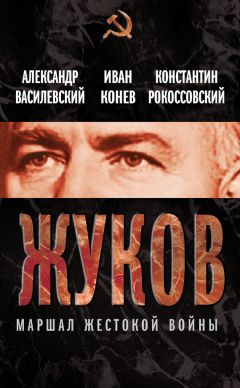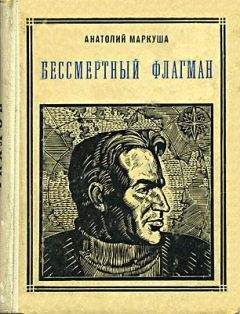Анатолий Маркуша - Нет
— Ну хорош! — сказал Вартенесян, кивнув на пострадавшего. — Декомпрессию надо делать пошире.
— Пульс пятьдесят в минуту, — сказала сестра.
— Люеровские щипцы положила? — спросила Клавдия Георгиевна.
Начав операцию и постепенно успокаиваясь, Вартенесян спросил:
— Новокаин смотрела? От какого числа?
Он работал тщательно и несуетливо, упорно заставляя себя думать только о деле, только о том, что надо было исполнять сейчас, сию минуту. Исход? Исход его не должен был отвлекать от дела. Он видел слишком много разных исходов…
— Рана кровит. Не вижу осколков. Суши, Клава, суши как следует… Должны быть еще…
— Отсос приготовила? — спросила Клавдия Георгиевна у сестры.
— Отсос готов.
— Пульс, пульс и давлэние говори! Почему не слэдишь, — и Вартенесян выругался. Операция давалась тяжело.
Дела тракториста были плохи. Рану заливало, и Вартенесяну никак не удавалось остановить кровотечение…
— Налаживай струйное пэрэливание, Клава. Внутримышечно — кофеин…
— Слушай, Сурен, может, сделать трахеотомию…
— Не паникуй раньше врэмэни…
Они работали, все отчетливее понимая, что усилия их напрасны. Парень еле тлел, поддерживаемый искусственным дыханием.
— Попробовать прямое? — сказал Вартенесян.
— Все. Экзитус, — тихо откликнулась Клавдия Георгиевна.
Был уже третий час ночи, когда измочаленный, ссутулившийся, разом постаревший Вартенесян вышел из операционной. Черной тенью метнулась к нему закутанная в платок женщина, маленькая, хрупкая. Он не разобрал — молодая, старая, хороша ли собой или безобразна. Все это не имело никакого значения.
Вартенесян молча развел руками и только горестно покачал крупной седеющей головой.
И тогда по всей больнице раздался даже не крик, а вопль — высокий, вибрирующий, животный.
Женщина будто захлебнулась собственным голосом, умолкла, едва справилась с удушием, стиснувшим ей горло, и еще пронзительнее закричала:
— Зарезали… Убили Николашку. Доктора убили… — и выругалась тяжелыми, мужскими словами.
Понимая, что он говорит совсем не то, что должен, что полагается, что всегда говорят в подобных обстоятельствах, Вартенесян произнес очень тихо:
— Стыдно такие слова говорить… Не тэпэрь кричать надо, а тогда, когда он пьянствовать уходил… Маладой такой… Красивый… Пачему молчала? Пачему не держала? Пачему? Доктора, говоришь, виноваты? Нет. Водка виновата, — и он пошел по коридору, ни разу не оглянувшись, не замедлив шага.
Женщина сразу умолкла и только нервно вздрагивала, будто все ее тело терзал нервный тик.
Утром Хабаров был хмурый. Его разбудил ночной крик, и до самого света он уже не заснул. На обычный вопрос Клавдии Георгиевны: «Как дела?» — ответил мрачно:
— Плохо жизнь устроена: живешь временно, умираешь навсегда.
Сначала Клавдия Георгиевна растерялась, но, сообразив, что Хабаров не мог не слышать ночного переполоха, сказала с жесткой усмешкой:
— Так! Значит, в философию ударились? Немедленно прекратите, Хабаров!
— Почему? Разве мои дела так плохи?
— С чего вы взяли, что ваши дела плохи?
— А иначе чего бы вам сердиться, доктор?..
— Как только не стыдно панике поддаваться. Вы же умный, сильный, волевой человек, Виктор Михайлович. Воля… — Клавдия Георгиевна хотела сказать что-то еще, но Хабаров решительно перебил ее:
— Однажды вы просили меня не пылить ненужными словами. Верно? А теперь я прошу: не надо! Что вы знаете, Клавдия Георгиевна, про волю и кто вообще знает чего-нибудь всерьез? Воля — это мысль, переходящая в действие. Но как прикажете действовать мне? Вот сейчас, здесь? А коли не действовать, тогда нечего и болтать про волю. Если бы вы мне хоть какие-нибудь восстановительные или, как их назвать, упражнения назначили, физкультуру лечебную прописали, тогда бы я знал, как ломать боль… А так что — одни уколы. Вчера мне пятнадцать шприцев вкатали! Это не считая того, что каждые два часа Тамара еще кровь берет…
Клавдия Георгиевна понимала — он устал, устал от неподвижности, болей, ожидания, но что она могла сделать — кости срастаются не сразу и, чтобы преодолеть флеботромбоз, тоже нужно время.
И Клавдия Георгиевна, поддаваясь извечному бабьему инстинкту, а вовсе не врачебным соображениям, стала гладить его по голове и приговаривать:
— Миленький Виктор Михайлович, ну, потерпите, еще несколько денечков. Ну, совсем чуть-чуть еще потерпите. Знаю, вы устали, мы вас уколами замучили. Знаю. Но теперь уже скоро вам станет легче. И физкультуру тогда назначим. Сурен, — впервые она назвала Вартенесяна без отчества, — сказал, что сам будет с вами упражнения делать. А он по части лечебной физкультуры просто бог…
И Хабаров улыбнулся.
— Есть же на свете дураки, которые пытаются утверждать, будто жалость унижает человека. Клавдия Георгиевна, пожалейте меня еще. Унизьте. У вас такие руки хорошие. Вы, если захотите, одними руками можете вылечить — без лекарств, без уколов.
Глава девятая
Она торопилась домой. Она очень устала. И все эти записи, документы, порядки, заведенные непонятно для чего и неизвестно кем, раздражали больше обычного.
Одна история болезни, другая, третья. И наконец последняя, может быть, единственно серьезная, единственная, требующая собранности и напряжения.
Смахнув белый колпачок с головы, поправив волосы, она принялась писать:
«10 апреля. Состояние больного значительно лучше. Жалоб нет. Пульс 76 ударов в минуту, температура субфибрильная. Кожная чувствительность на правой ноге сохранена. Протромбин 56 процентов. Прямые антикоагулянты заменены непрямыми (пелентан)».
Тамара влетела в палату.
— Виктор Михайлович, вам почта. С аэродрома шофер привез. Станцуете или так отдать?
Первое, на что Хабаров обратил внимание, — конверты без марок и почтовых штемпелей. На одном значилось: «Полковнику Виктору Михайловичу Хабарову», — он сразу узнал ровный, стремительный почерк Блыша; на другом — «В. М. Хабарову (лично)». «Лично» подчеркнуто красной чертой.
Не раздумывая, Хабаров вскрыл письмо Блыша и прочел:
«Глубокоуважаемый Виктор Михайлович!
Я просто не нахожу слов, чтобы выразить Вам свое сочувствие. Боюсь писать общепринятые в таких случаях вещи, а то Вы опять скажете: от него один шум и никакой информации… Надеюсь, Вы меня понимаете?
Произошли громадные перемены! Я зачислен и откомандирован в Центр. В части рассчитался полностью, переехал в общежитие (семья осталась пока в гарнизоне). Здесь нас принял Кравцов, долго беседовал и в конце концов совсем неожиданно сказал: «Ввиду того, что произошла некоторая задержка с комплектованием преподавательского состава и утверждением программы, начало занятий откладывается на месяц. А вас, вновь прибывших, мы используем на «подхвате».
«Подхват» оказался весьма разнообразным: кое-кого прикомандировали к транспортному отряду, будут летать на связных машинах и стажироваться вторыми пилотами на транспортных кораблях. Лично мне повезло, кажется, больше — дали вести программу испытания. Машина известная, такая же, как была в части, надо выполнить черт знает сколько посадок с разными режимами торможения на пробеге.
Таким образом, завтра в 8.00 начинается моя полезная деятельность в роли летчика-испытателя. (Поздравления принимаются ежедневно с 16.00 до 22.00.)
Я очень рад и бесконечно Вам благодарен за участие, совет и помощь.
Вчера впервые ступил на территорию летно-испытательной станции.
Больше всего понравилась летная комната, хотя я и робел перед ее старожителями.
Видел Вашего тигра на шкафчике. Мировой зверь!
Начлет сказал: «Можете временно занять шкафчик Углова», что я и сделал вчера же.
Постепенно привыкаю и знакомлюсь с народом. Играл в шахматы со штурманом Вадимом Андреевичем Орловым, счет 3: 2, к сожалению, в его, а не в мою пользу…
Желаю Вам, Виктор Михайлович, как можно быстрее поправиться и вернуться на наш аэродром.
С уважением Антон Блыш».Виктор Михайлович дочитал письмо до конца и никак не мог сообразить, что же именно так неприятно кольнуло его в этом почтительно-доброжелательном послании? А что-то кольнуло! И больно.
Наконец понял — не стиль: стиль Антон заимствовал у него, у Хабарова; и не бойкость, собственно, бойкость-то как раз и привлекла внимание Виктора Михайловича к случайно встретившемуся на его пути старшему лейтенанту; кольнули слова — «наш аэродром».
Как-то слишком легко адаптировался Блыш в летно-испытательном отделе Центра. И в шкафчик Углова успел въехать, и аэродром, на котором он, Хабаров, протрубил без малого десять лет, не задумываясь, называет «наш»…