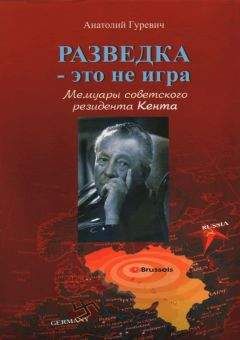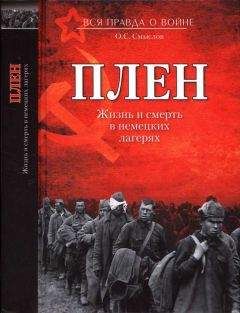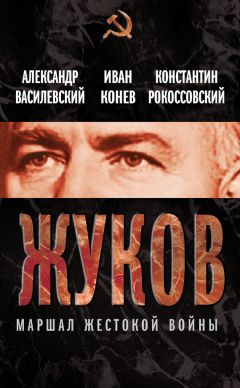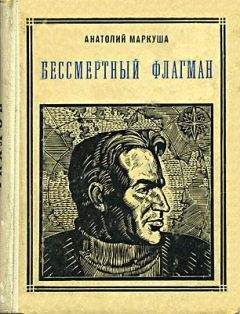Анатолий Маркуша - Нет
«Коллекционирование прекрасно тем, что приучает человека, во-первых, бережно относиться к прошлом, во-вторых, помогает в малом видеть великое и, в-третьих, дает превосходные навыки в систематизации», — любил повторять профессор Барковский.
Всякий коллекционер, начинающий шестиклассник и почтенный седовласый академик, был Аполлону Игнатьевичу заведомым другом и желанным гостем.
Когда в пять минут девятого деликатно позвонили во входную дверь, Аполлон Игнатьевич сам направился открывать. На пороге профессор увидел старого высокого мужчину, по-военному подобранного, суховатого. На вопросительный взгляд Аполлона Игнатьевича посетитель ответил коротким наклоном седой головы и несколько неожиданными словами:
— Дуплянский, Алексей Алексеевич. Простите, сейчас я буду хвастаться: заслуженный пилот республики, летчик-испытатель, полковник в отставке…
— Одну секунду… — живо перебил гостя Аполлон Игнатьевич и исчез в комнатах. Вернулся он буквально через полминуты, на ходу застегивая генеральскую тужурку. В форменной тужурке с широкими погонами на плечах и домашних, совершенно цивильных брюках Барковский выглядел смешно. И Алексей Алексеевич невольно улыбнулся.
Улыбка натолкнулась на улыбку:
— Ну! Так чей козырь выше? И позвольте уточнить, любезный Алексей Алексеевич, для какой такой тайной цели вы вздумали хвастаться? — весело спросил Аполлон Игнатьевич. — А пока прошу! Проходите в хату, заслуженный пилот…
— Боялся, Аполлон Игнатьевич, что иначе не пожелаете принять, тем более вы человек занятый, не то что я, пенсионер…
— Для коллекционера мой дом не бывает заперт, а сам я не бываю занят: пожалуйте хоть в ночь, хоть в за полночь — всегда рад. Филателист? Нумизмат? Садитесь. Значкист или этикетчик?
— Простите, не понимаю?
— Почему не понимаете? Или вы что — не коллекционер?
— Извините, нет.
Аполлон Игнатьевич озадаченно поглядел на своего посетителя, наморщил лоб:
— Странно. Елочка сказала, что сюда приходил давеча коллекционер, не то Грачев, не то Гусев… Выходит, это не вы? Вы, как теперь говорят, «по другому вопросу». Ну ладно: по другому так по другому. Чем могу?
— Я, Аполлон Игнатьевич, хотел узнать из первых рук: как Хабаров? Вы летали к нему. Хабаров — очень дорогой мне человек. Ученик, друг, если хотите, продолжение мое в нынешней авиации.
Молча глядя в суконную зелень письменного стола, Барковский насупился. Алексей Алексеевич почувствовал, старик недоволен и нисколько не пытается этого скрыть.
— Странная получается штука, — заговорил Барковский, — не успел я прилететь от Хабарова, звонят от нашего министра: как? Потом от вашего: тоже как? Дальше начальник Центра лично интересуется и еще, и еще… а теперь вы…
— Хабаров, Аполлон Игнатьевич, всем очень дорог. Это испытатель высшего класса и превосходный человек… Собственно, я ведь не из праздного любопытства рискнул вас обеспокоить. Все эти дни думаю: как бы перевести Виктора Михайловича сюда, скажем, в Главный госпиталь или в вашу клинику. — Заметив протестующий жест профессора, Алексей Алексеевич заторопился, не давая перебить себя. — Когда-то, теперь, правда, уже очень давно, у меня был механик Фома. Так вот, механик этот паковал в картонную коробку две сотни яиц и на спор сбрасывал яйца с плоскости… — Аполлон Игнатьевич, видимо, заинтересовался, во всяком случае, с лица его исчезла нетерпеливая гримаса, в глазах проблеснули какие-то озорные, задиристые искорки, и Алексей Алексеевич продолжал, воодушевляясь: — Условия спора были жестокие — за каждое разбитое яйцо Фома обязывался расплатиться бутылкой коньяка. Только он никогда не проигрывал. Так неужели нельзя найти способ транспортировать человека, тем более что тут и расстояние не такое значительное?
— В каком году бросал ваш Фома яйца с самолета? — деловито спросил Барковский и снова нахмурился.
— В тридцать втором или, может быть, тридцать третьем…
— Врете!
— Как это, извините, вру?
— А так. Очень просто — сочиняете! Во всяком случае, про коньяк врете. В те годы авиационные механики коньяк не пили. Водку — да! Спирт — тоже, а коньяк тогда ходу не имел. Но это подробность. Меня гораздо больше интересует другое. Почему вот вы, заслуженный пилот республики, летчик-испытатель и прочая, и прочая, позволяете себе, подчеркиваю — априорно, оказывать недоверие врачу, в чьих руках находится ваш коллега? Министры не доверяют, бог с ними, у министров (могу предположить) другие масштабы восприятия жизни, но вы-то почему? Нет уж, позвольте, позвольте… дайте мне докончить мысль! Вы горели в воздухе? Может быть, взрывались или прыгали с парашютом? Ну, что там еще бывает на этой вашей тореадорской работе? Я хочу спросить: хлебали горюшка? Полагаю, хлебали! И что же, в стрессовых ситуациях вы просили поддержки и совета у начальства? Или сами решали, чего и как спасать: машину, идею, допустим, или собственную шкуру? Черт знает что получается! Высказывать недоверие врачу только потому, что он, видите ли, работает не в клинике имени… потому, что он не столичная знаменитость, а рядовой… — Профессор вытянулся во весь рост и, наливаясь темной кровью, почти выкрикнул: — Да я за такого доктора Вартенесяна, кстати, сказать, он, к вашему сведению, кандидат наук, трех своих профессоров отдам! Сурен Тигранович — рядовой врач, но, между прочим, этот рядовой всю войну на фронте пробыл! Сколько он людей спас? Кого только и в каких условиях не оперировал…
Неслышно Вошла Елена Александровна, с укором посмотрела на Алексея Алексеевича, тоже поднявшегося с кресла и стоявшего против Аполлона Игнатьевича в напряженно-виноватой позе. Заметив жену, Барковский как-то сразу остыл, «выключился». И сказал вполне добродушным тоном:
— Знакомьтесь — моя жена, Елена Александровна. А это, Елочка, Алексей Алексеевич Дуплянский, а не Грачев и не Гусев. И вовсе он не коллекционер, как ты почему-то решила, а знаменитый летчик. — И обратился к Алексею Алексеевичу: — Вашего Хабарова с места трогать нельзя и не нужно. Я лично не только не стану способствовать подобной афере, но всячески воспротивлюсь, даже если на меня будут давить все министры на свете. А теперь, Алексей Алексеевич, надеюсь, вы не откажете в удовольствии мне и Елене Александровне и выпьете с нами чашечку чаю?
— Право, как-то даже неловко… — сказал Алексей Алексеевич, — незваный ворвался в дом, разволновал вас и еще чай пить…
— Ворвались? Ладно, если желаете, так и будем считать — ворвались. Пожалуйста. Но теперь, так или иначе, вы же все равно здесь! Разволновали? Допустим, но это не так страшно. Как вы думаете, почему я до сих пор живой, работаю и кому-то еще нужен? Только потому, что постоянно волнуюсь. И вам рекомендую — волнуйтесь! Раз я волнуюсь, значит существую. Может быть, вас смущает чай? Но мы можем попросить Елену Александровну, и, я надеюсь, она отыщет в своих резервах по рюмочке коньячка, того самого коньячка, который в тридцатые годы авиационные механики не пили. Я продолжаю настаивать — не пили!
От профессора Алексей Алексеевич вернулся в двенадцатом часу. Его расстроила эта идиллическая супружеская пара, трогательно называвшая друг друга Поль и Елочка, не скрывавшая перед ним, посторонним, своей приязни, нежности, какого-то наивного умиления; и невольным укором прозвучали слова Барковского о пользе волнения, и мимолетное упоминание о неукротимой деятельности профессора тоже задело Алексея Алексеевича. И может быть, самое большое впечатление произвел молодой, неподдельный задор Аполлона Игнатьевича.
Пока Алексей Алексеевич ехал домой, в свою пустую, одинокую квартиру, ему вспомнился давний разговор с одним старым другом. Друг говорил тогда:
— Эх, Алеша, Алеша, как я тебе завидую. Такой, знаешь, хорошей белой завистью. — Незадолго перед тем друг расстался с женой, и завидовал он семейному миру Алексея Алексеевича.
— Врешь, Костя, — возразил Алексей Алексеевич, — белой зависти не бывает… Не надо ханжить — от жены ты сам сбежал…
Давно это было. Не осталось в живых ни жены, ни старого друга, и сам он, Алексей Алексеевич, давно, как говорится, не у дел, в стороне от забот и хлопот.
«Может, правда начать марки собирать? Или значки? Все-таки занятие», — подумал Алексей Алексеевич, отпирая дверь.
Примерно в это же время в больницу к доктору Вартенесяну привезли тракториста с проломленным черепом. Бегло осмотрев пострадавшего, Вартенесян распорядился:
— Быстро на стол. Вызовите Клавдию Георгиевну. Приготовьте кровь.
Он мылся торопливо, недовольно хмурил густые брови, испытывая неисчезающее чувство раздражения…
Прошло минут десять, и они сошлись над операционным столом: Вартенесян, Пажина, хирургическая сестра.