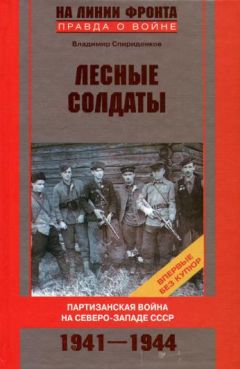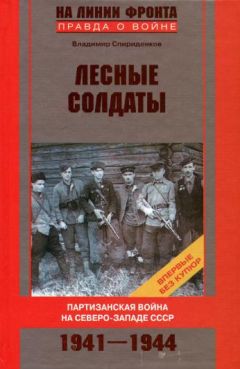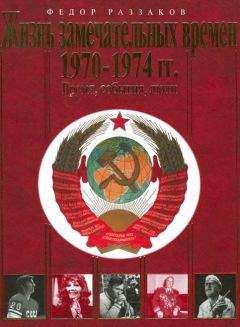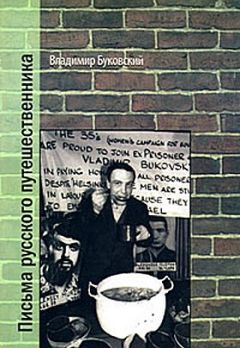Владимир Рыбин - Непобежденные
Наше идейное оружие — самое острое, потому что это оружие правды. Мы могли смело и прямо говорить неприятельскому солдату об обмане, огромном мошенничестве, жертвой которого он стал. Мы могли строго научно доказывать правоту марксистско-ленинских идей, нашу правоту в войне, обоснованно показывать перспективу неизбежной победы коммунизма. Могли? Нет, не могли. Не теоретические обоснования требовались на фронте, а прежде всего хорошее знание психологии немецкого и румынского солдата. «Немецкие братья по классу!» — взывали они, спецпропагандисты, в своих листовках в самом начале войны. А «братьев» были единицы. Классовое сознание у основной массы вражеских солдат было задавлено фашистской демагогией.
Однажды, еще под Одессой, они попробовали проверить действенность своих листовок на пленных. Выбрали рабочего из Гамбурга, дали прочитать ему листовку, в которой было написано, что на предприятиях «Герман-Геринг-верке» работает 600 тысяч рабочих. Они-то рассчитывали, что немецкие солдаты, прочитав листовку, поймут размах эксплуатации. А пленный все понял иначе. «Господин рейхсмаршал действительно деловой человек, — сказал пленный. — Был когда-то без штанов, а теперь — миллионер. Умный, деловой парень». Вот так они ткнулись тогда носом в собственную глупость. Не учли, что человек, воспитанный обществом эксплуатации, не против эксплуатации вообще, потому что сам мечтает рано или поздно стать пусть мелким, но хозяином. Вспомнилось откуда-то, что самыми жестокими эксплуататорами становятся бывшие рабы, воспринявшие психологию хозяев. Таких людей можно было лишь напугать, убедив их, что намерения поживиться за чужой счет напрасны, что на этом пути их ждет смерть. Когда-то писали в листовках: «Камаразь осташь ромынь» («Товарищи румынские солдаты»). Скоро опомнились: фальшиво и неубедительно. Хороши «камаразь», которые гвоздят авиабомбами.
Когда-то писали в листовках о грабительской сущности гитлеровской армии. И скоро поняли: нелепо. Большинство солдат и сами это знали. Им ведь обещали дешевых батраков, виноградники в Крыму, хорошую жизнь на чужой земле за чужой счет. Они шли именно грабить, а их стыдили. Получалось, как в басне Крылова «Кот и повар».
«Сдавайтесь в плен!» — призывали в листовках даже в трудные дни октября, когда сами отступали, и тем, надо полагать, только смешили немецких солдат…
Учились на собственных ошибках, на опыте. И вроде бы кое-чему научились. К примеру, поняли, что беседовать с пленными надо сразу же, на передовой. Ответы «свежаков» непосредственнее. Если же с пленным уже проводили несколько бесед, то он приспосабливался к собеседнику и говорил то, что, по его мнению, могло понравиться. Потом они замыкались, а в первые часы, еще не опомнившиеся, часто выбалтывали интересное, помогавшее в непростом деле пропаганды среди вражеских солдат. Один пленный так и признался, что он пошел в Россию завоевывать себе имение. «У нас, — ораторствовал он, — народу много, а земли мало. Фюрер установил закон о крестьянском дворе: после отца весь крестьянский участок отходит старшему сыну. А я — младший… Где мне взять землю? В Крыму надеялся получить». А другой, бывший рабочий с одного из заводов Цейса, вдруг заявил, что он — акционер предприятия, на котором работал. «У нас все рабочие — акционеры и участвуют в прибылях. В конце года администрация докладывает рабочим о ходе дела и определяет дивиденды, если завод работал хорошо» — «А если случится убыток? — спросили его. «Риск во всяком деле неизбежен, — уверенно ответил он. — Тогда для каждого рабочего определяется не дивиденд, а его доля в покрытии убытков. Любишь получать лишнее, умей и платить неустойку».
Вот такие они, рабы, воспитанники своих хозяев. Даже для фашистских заправил находят добрые слова. «Геббельса у нас не уважают — много болтает, — заявил один солдат, тоже из рабочих, — а вот Геринг — деловой человек и демократичный, не гнушается пешком побродить по парку, посидеть на скамейке с простым человеком. Фюрер — спаситель Германии…» Последнее, услышанное из уст рабочего, удивило. «Это почему же?» — «Он дал немцам работу. В Веймарской республике половина рабочих сидела без работы. Пришел Гитлер, и все изменилось». Попытались разъяснить ему, за счет чего это произошло: молодежь он взял в вермахт, а заводы загрузил военными заказами, готовясь к войне. «Э, герр комиссар, — отмахнулся пленный, — человеку все равно, за что он получает свой кусок хлеба с маслом — за то, что вяжет чулки, или за то, что делает снаряды…»
Вот вам и классовая солидарность! Вот на какие выверты способно «классовое сознание»! Мы как-то забыли, что сознание предполагает знание, оно дается не от рождения, а вырабатывается в борьбе за свои права… Сколько людей в первые дни войны верили, что война долго не продлится, что поднимется мускулистая рука немецкого пролетария и сметет фашистскую свору. Не поднялась…
Зимняя ночь долгая: на все хватило темного времени — и на сборы, и на дорогу, и на приготовление к передаче. Они выбрали участок траншеи, который не так близко подходил к немецким позициям и куда гранату было уже не добросить. Дальность тут не имела особого значения: в ночной тишине даже простой голос человека слышен за километр. Установили жестяной рупор на бруствере, и Арзумов постучал пальцем по микрофону. Стук прозвучал громко, как выстрелы, и с немецкой стороны тотчас короткой очередью отозвался пулемет.
— Ахтунг! Ахтунг! — сказал Арзумов. Звенящий голос прозвучал в тревожной ночи мирно, как-то по-домашнему. Он подождал, не начнется ли стрельба, но было тихо. Немцы, как видно, ждали, прислушивались.
— Дойче зольдатен! — Он снова сделал паузу. Напряженная тишина по-прежнему висела над окопами, над погруженной во тьму землей.
Небо над Крымскими горами уже заметно мутнело, но здесь, внизу, тьма от этого, казалось, сгущалась еще больше. Торжественно, явно подражая голосу Левитана, Арзумов начал рассказывать о контрнаступлении Красной Армии под Москвой, о поражении немецких войск на подступах к Москве. Передовая молчала, замерев в напряженном ожидании. А он говорил о том, что шестого декабря войска нашего Западного фронта, измотав противника в предшествующих боях, перешли в контрнаступление против ударных фланговых группировок противника, что в результате этого наступления обе эти группировки разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружение и неся огромные потери… Рубленые немецкие фразы звучали над притихшей нейтралкой, как команды. Где-то в стороне, видимо, сбитый с толку чужой речью, застучал наш «максим». Немцы вопреки обыкновению не ответили, и снова глухая тишина повисла над окопами, над черной землей. Даже ракеты перестали взлетать.
Первый выстрел с немецкой стороны прозвучал, когда Арзумов дочитал почти до половины. И сразу, словно опомнившись, зачастили пулеметы, пули с коротким сухим стуком зашлепали по брустверу, заныли рикошеты. Жалобно зазвенела жесть рупора от прямых попаданий. Стараясь не высовываться из-за бруствера, Красновский и Арзумов втащили рупор в окоп и долго молча сидели, ждали, когда немцы успокоятся. Уже посветлело небо, а пулеметы все стучали злобно и часто.
Пришлось отойти по. окопу метров на пятьдесят и там выставить рупор на бруствер. Когда Арзумов снова прокричал свое «Ахтунг!», передовая на какое-то время затихла. Потом справа и слева начали рваться мины. Вскоре в глубине немецкой обороны взметнулись кусты разрывов: для подавления минометов наши, как видно, вызвали огонь береговой батареи, поскольку звуки выстрелов докатывались издалека глухим утробным гулом.
И снова затихла нейтралка. И снова зазвенел спокойный голос Арзумова. Он успел сказать, что с шестнадцатого ноября по десятое декабря немецкие войска потеряли под Москвой 1434 танка, 914 орудий и минометов, 5416 автомашин и 85 тысяч солдат и офицеров только убитыми…
На этот раз на окопы обрушился шквал огня. Казалось, ожила вся передовая, как во время самых ожесточенных ноябрьских боев. Земля дрожала от частых разрывов, сверху летели камни, сыпался черный, перемешанный с землей снег, и два спецпропагандиста долго лежали на дне окопа, закрывая руками свою нехитрую аппаратуру.
И вдруг опять упала тишина. В этой тишине, словно детская хлопушка, выстрелила винтовка. И через мгновение горохом рассыпалась разрозненная стрельба. Красновский выглянул из окопа, увидел неподалеку прыгающие фигурки немцев, нечеткие, словно размазанные в мутно-сером сумраке. Перед многими из них трепетали огоньки автоматных очередей: атакуя, немцы на ходу вели огонь.
Пуля хлестнула мерзлую землю возле самой щеки, острой крошкой резануло по глазам. Он сполз в окоп, зажмурившись, закрыв лицо руками. Но тут же заставил себя разжать руки. Увидел испуганное лицо Арзумова и обрадовался: глаза целы.
За выстрелами послышались какие-то крики. И вдруг стрельба стихла, остались только эти крики, глухие, злобные. Смутная догадка заставила Красновского забыть о рези в глазах. Судорожно цепляясь руками за холодные стенки окопа, он поднялся и увидел впереди большую шевелящуюся массу людей. Доносились частые удары, хрипы, русская и немецкая ругань. В занемевшей, без выстрела тишине передовой эта рукопашная схватка казалась обычной дракой. Подхваченный неведомым возбуждением, он засучил ногами, стараясь обо что-нибудь опереться и выскочить из окопа, скорей бежать туда, где «наших бьют». Ноги срывались, и он каждый раз неловко тыкался лицом в бруствер. Вдруг увидел, что Арзумов уже выскочил, и это заставило опомниться.