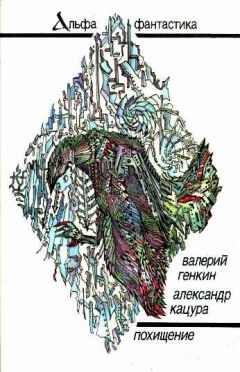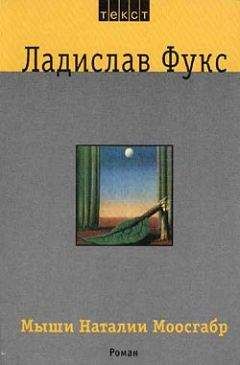Ладислав Мнячко - Смерть зовется Энгельхен
И не исключено, что хоть на день, хоть на несколько часов нам удалось сократить эту войну. Много это? Мало? Достаточно для того, чтобы сохранить тысячи жизней. Многие, которые остались живы, даже и не подозревают, что за их радость и свободную жизнь двадцать семь хуторян приняли страшную смерть.
Плоштина… Всегда от одного ее названия у меня будет стынуть кровь, всегда мысль о Плоштине будет напоминать о том, как могут быть гибельны человеческие ошибки. Но ведь не напрасно горели хуторяне. Постепенно я освобождался от паутины ужасных мыслей, которую я сам соткал в то время, когда был прикован к больничной постели. Но нет, не отогнать этих мыслей совсем, Плоштина на моей совести, я не перестаю считать, что мы должны были предстать перед судом и ответить за нее, что беспристрастный и незаинтересованный судья должен был назвать виновника гибели хутора Плоштина.
Безусловные виновники — немцы, война, Гитлер, Скорцени, Энгельхен… Но и мы — и наша доля вины есть в этой трагедии, и мы виновны; мы приняли гибельное решение — покинуть деревню. И погибший Николай, и Гришка, и Фред, и я — ведь это я требовал, чтобы мы уходили, — и несчастный парнишка, который в страшную критическую минуту оставил свой пост Мы не должны были уходить из Плоштины, не смели. Немцы могли сжечь ее, у них было достаточно средств и сил, но никто из нас не должен был пережить этого, никто из нас не должен был оставаться в живых, когда языки пламени коснулись плоштинских крыш.
Некоторые партизаны отчаянно старались успокоить свою совесть призывами к мести. Отомстим за Плоштину! Но как? Каким образом? Мы могли бы, например, в хаосе первых послевоенных дней перебросить весь отряд куда-нибудь на немецкую территорию, захватить одну, две, десять деревень, отделить мужчин от женщин, связать им руки, затолкать в несколько домов, полить все бензином и сжечь — это была бы месть по фашистскому образцу, десять за одного. И кое-кто в нашем отряде говорил, что мы могли бы, даже обязаны были так поступить. Пусть узнают гитлеровцы, пусть сами попробуют плоды, которые щедро раздавали по всей Европе…
Но ведь мы-то не гитлеровцы. И за оружие мы взялись не для того, чтобы делать то, что делали они. Сделаться таким же зверем, каковы были фашисты, совсем не так трудно. Ничто не мешало человеку стать этим зверем, ничто, кроме человеческого достоинства.
А если бы все так и было? Если бы мы отплатили немцам их же монетой? Разве этим мы поможем Плоштине? Оживут почерневшие кости плоштинчан? Можно вернуть таким образом мужей плоштинским женщинам, отцов — детям, хозяев — плоштинским полям?
Часто за последние недели, уже выздоравливая, я пытался утешать себя: время, говорил я себе, лечит, и худшие раны оно залечивает; мы построим новую послевоенную Плоштину, красивее, чем была прежняя, мы обработаем поля, соберем урожай, доверху набьем зерном амбары, пусть не знают нужды… Но кто из нас думает нынче о Плоштине, кто вспоминает о ней в эти драматические и хаотические времена? Может быть, только я один — да и то потому, что ничего другого не могу делать. Нет, не все залечивает время — бывают раны, которые оно залечить не может. Еще через десять, еще через двадцать лет состарившаяся от тяжелого крестьянского труда Андела отведет потеплевший взгляд от любимого внука и вздохнет — отчего? Отчего?
Отчего отец, муж, два брата погибли в огне? Должно было так случиться? Должно было?
Кто же даст ей ответ?
Откуда-то издалека ветер принесет обрывки песни, и выпадет мотыга из рук старой Рашковой. Франтик, ее сын, любил петь эту песню.
А Фред? А Марта? А мать Карола? А я?
Мы все связаны с Плоштиной страшными узами, кровь не вода… И если даже весь мир простит, захочет забыть, забудет, Плоштина не простит, не захочет забыть, не забудет…
— Ну, а вы? Что делали вы потом? Присоединились к отряду Гришки?
— Нет. Мы были до предела вымотаны, обессилены, разбиты. Мы перешли линию фронта в надежде, что для нас на этом все кончится. Но ничего не кончилось. Мы проводили наступающие части через горы, первыми врывались в города, в деревни. Перевалы мы миновали без единого выстрела, со всех холмов и косогоров бежали к нам навстречу партизаны из других отрядов. Они не могли поверить, что мы живы, уже давно они схоронили нас. Немцы не защищали пограничные горы, но внезапно укрепились на совершенно открытом пространстве. Два дня они удерживали позиции в Чертовых скалах, в том месте, где мы в свое время сыграли с ними злую шутку. Уже наступил май, Гитлеру был уже капут, а они все еще воевали. Я не мог понять почему. Это была совершенно фантастическая военная машина, ее ничто не одухотворяло, никакая мысль не вдохновляла ее, но машина работала. До последней минуты работала.
— Я видела вас, Володя, видела и очень боялась. Мы с Браздой стояли на крыше и видели все, что творится в городе. Доктор все время посылал меня вниз, он говорил — неизвестно, что еще может случиться, но я ни за что на свете не ушла бы. В городе было еще полно немцев, в больничном саду у них были пушки, и они все время стреляли из них. Я и не думала о том, что будет, как будет и когда все начнется, — я только думала, что в городе камня на камне не останется. Потом я увидела вас, вы выбежали из леса над городом. У Бразды был бинокль, он сказал озабоченно: «Это только партизаны». Вас было мало, и я боялась, что немцы всех вас перебьют, но немцы вдруг побежали, и те, которые были в госпитальном саду, бросили свои пушки, и я не могла понять, отчего они бегут, ведь вас было так мало. Наконец Бразда заставил меня спуститься в подвал, по всему городу стреляли, и мы не знали, кто кого убивает — немцы наших или наши немцев. И вот наступила тишина, такая тишина, что слышно было, как сердце колотится в груди. Кто-то бежал вниз по лестнице и кричал: «Наши! Наши!»
Элишка замолчала. Как давно это все было. Жизнь за это время принесла столько нового, столько радостей и забот…
— Ты помнишь, Володя… В тот вечер, когда окончилась война, я сидела рядом с тобой, а ты посылал меня не улицу, ты говорил — идите, Элишка, бросьтесь на шею первому встречному, отдайтесь ему, даже если никогда еще не отдавались; сегодня каждый должен быть для вас желанным, это ночь ночей, в эту ночь все позволено… Тогда я уже не чувствовала этого, тогда у меня уже все прошло, но когда я увидела на домах первые флаги и с улицы донесся сюда в госпиталь страшный шум, тогда и мне захотелось послать ко всем чертям и службу и все, все. Я захотела выбежать и закричать — первый, первый, кого я встречу сейчас, будет мой, мой, никому не отдам его! Ведь нужно же ему отдохнуть на чьей-нибудь груди, а я не так уж плоха, и это самое меньшее, что я могу сегодня сделать для первого встречного…
Но в это время привезли тебя, ты был тем первым, кого я увидала, и мне стало очень стыдно. Ты лежал, такой беспомощный в этой огромной повозке, я не знала, что с тобой, но очень испугалась. И я тогда решила — он не умрет, я буду ходить за ним: ни днем, ни ночью не отойду от него, но он не умрет! Не умрет! И Бразде я сказала: «Положите его в отдельную палату, это ведь первый наш раненый, не какой-нибудь, но первый…» Но все это я говорила только потому, что сама хотела ходить за тобой. Ты не сердишься на меня за это, Володя?
Вот глупая… Глупая ты, Элишка…
Я выздоравливал, но беспокойство мое росло, росло нетерпение, я злился, грустил. Костыли я заменил палкой, целыми днями простаивал в отдаленном уголке госпитального сада и не отводил глаз от того, что происходило в другом, не больничном мире, сам оставаясь невидимым. Здоровые люди, занятые своими делами, проходили мимо больничной ограды, не думая о том, что ни одно их движение не ускользает от двух внимательных глаз, жадных и нетерпеливых. Так я наблюдал за различными ликами свободы, непраздничными ее ликами. Не все, что я видел, было одинаково красиво, мне никто не мешал наблюдать, а времени на размышление над смыслом этих дней было у меня достаточно.
На улицах появлялось все больше и больше офицеров в парадной довоенной форме, со сверкающими погонами и знаками отличия, с блестящими звездочками на петлицах. Это не иностранные, не фронтовые офицеры, у тех нет такой парадной одежды. Откуда же вдруг взялось их столько? Где же вы были, господа офицеры, когда шли бои? Или вы служили в особом войсковом подразделении, составленном только из одних кадровых офицеров? Во всяком случае, у офицеров был такой вид, точно все, что произошло, сделали они, они и никто иной.
Случилось так, что я стоял у ворот как раз в то время, когда мимо больницы, запыхавшись, пробежал на коротких ножках пан Кроупа. Он увидел меня и демонстративно отвернулся. Ну что ж, мои дела идут совсем неплохо, если пан Кроупа не желает со мной здороваться. Но чем занимается сам пан Кроупа? Как видно, купил себе удостоверение в патриотизме за последнюю, действительно последнюю бутылку «Геннеси». Как видно, такие же надежные и заслуживающие доверия люди, как и он сам, подписали ему бумажку о том, что он помогал партизанам еще в 1808 году, когда Наполеон напал на Испанию, где, как известно, и появилось это замечательное, столь романтическое слово — партизаны! Теперь, говорят, все очень просто. Сойдутся три вот таких типа и пишут один другому удостоверение — они были, оказывается, боевой группой. Теперь, когда партизаны не требуются, их объявились несметные толпы. Каждый торговец, фабрикант, каждый спекулянт теперь хвастался, что участвовал в нелегальной работе. Они, мол, «скрывали» от немцев мануфактуру, продукты питания, все возможное, все это делалось под страхом смерти. Они действительно скрывали свои «патриотические» товары, они прятали их как можно дальше, чтобы не дать их страшным русским.