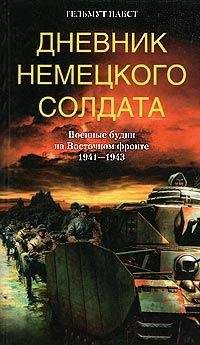Гельмут Бон - Перед вратами жизни. В советском лагере для военнопленных. 1944—1947
Но на следующий день Марины уже нет в ее кабинете.
— Переведена на новое место! — поясняет лейтенант Лысенко.
Это совершенно типичный случай для нашего плена. Часами готовишься к тому, чтобы найти подходящие слова в разговоре с нужным человеком. Волнуешься, стараясь запомнить его имя и звание. И вдруг выясняется, что все было напрасно. Не успело пройти и полдня, а человека уже нет на месте!
Такое происходит не только в общении с русскими. Но также и с нашими товарищами по несчастью, которые постоянно приходят и уходят.
Ведь в обычной жизни годами общаешься только с немногими близкими людьми. Проходит какое-то время, прежде чем познакомишься с новым человеком. И для этого требуется приложить еще немалые усилия.
А здесь, в лагере, ты пролетаешь мимо всего, как в поезде. На своем пути встречаешь тысячи людей, которым приходится заглядывать в души. Однако не успеешь оглянуться, а их уж и след простыл. Поэтому надо жить одним днем! Часто ошибаешься в оценке людей. Многим слишком доверяешься. С другими поступаешь несправедливо.
Но со всеми, кого случайно встречаешь на своем пути, нужно обращаться как в романах. Это остается навсегда.
Взять, например, этого Герберта, с которым я порядком намучился. У него склонность к тому, чтобы стать великим героем, главным действующим лицом, с которым хотелось бы поддерживать мужскую дружбу в течение всей жизни.
Но я уже знаю наперед, что ждет его впереди. Однажды медицинская комиссия признает его дистрофиком, потом он попадет в госпиталь. Возможно, после госпиталя его переведут в другой лагерь. В любом случае я не смогу удержать его здесь. Я не решаюсь даже предложить ему стать активистом, чтобы ему жилось полегче. Он просто когда-нибудь тихо погибнет.
Или вот Адмирал. Настоящий великан. Матросом он объездил весь мир. С одним глазом, он в профиль похож на орла. Он носит бородку клинышком, из-за этого я называю его Адмиралом. Но вот о России он не имеет ни малейшего понятия. Я даже удивляюсь, как при своем упрямстве он смог стать хлеборезом.
Например, я часами пытаюсь втолковать ему, как было бы плохо, если бы мы выиграли войну. При этом я еще постоянно повторяю:
— Мы в активе! Мы в активе!
Но потом, однажды намыливая мне спину в бане, он вдруг заявляет:
— Нет, послушай, мой дружочек! Все-таки было бы лучше, если бы мы выиграли войну, а не Иваны. Уж с нашими СС мы бы как-нибудь сами справились!
Конечно, как активист, я не могу допустить, чтобы кто-то не повторял то, что я ему уже разжевал, и при этом еще называл меня «мой дружочек»!
— Вы все слишком глупы! — бросаю я Адмиралу в лицо.
В ответ он тотчас выливает на свой могучий торс целую бадью воды.
С другим пленным я отваживаюсь на крайние меры. Ему уже за сорок. Он родом из Рейнской области. Директор издательства. Можно подумать, что он считает себя умнее всех.
— Вы должны иметь об этом ясное представление! — убеждаю его я. — Если они перестанут находить фашистов среди нас, то тогда сами кого-то сделают фашистом. Они заметут каждого, кто не ратует за Москву и от кого за версту несет интеллигентностью!
В ответ житель Рейнской области лишь беззаботно смеется:
— Лучше бы мы познакомились с тобой в «Неугасимой лампаде». Что за заботы у тебя с твоими питомцами?
Кубин подозрительно косится в нашу сторону. Я осторожно отвожу за угол «дорогого герра Виддериха», как уроженец Рейнской области любит называть себя.
— Подумаешь! — говорит он. — Какая разница, любят они нас или ненавидят, но когда-нибудь они должны будут все равно отпустить нас!
— Они вообще ничего не должны, — сердито возражаю я. — Вы считаете, раз сейчас никого не расстреливают, то, значит, все не так уж и плохо!
— Ты уже слишком долго находишься здесь, — беззаботно заявляет уроженец Рейнской области, — у тебя психоз военнопленного!
— Я часто тоже так думаю! — говорю я. — Но на Евстафьевской улице рядом со мной живет бригада квалифицированных рабочих, так вот они работают только на госпиталь! Каждую неделю они роют новую братскую могилу. Конечно, в самом лагере теперь уже никто больше не умирает, Но зато в госпитале мрут, как мухи!
— Я знаю об этом, — сразу посерьезнел уроженец Рейнской области, — или ты думаешь, что мы знаем только то, о чем нам рассказываете вы, активисты! Но разве можно что-то изменить, чтобы они не умирали? Нет, теперь для нас главное не терять самообладание!
— Можно ли это изменить? — не отстаю от него я. Я считаю этого уроженца Рейнской области разумным человеком, который должен своими словами донести до остальных мою мысль. — Те, кто сейчас умирает в госпитале, раньше были такими же здоровыми и физически крепкими, как и вы, новенькие. И многие из тех, кто сейчас умирает, были занесены в черный список. Я тебя предупреждаю, берегитесь этого Кубина!
— Я считаю все это сущим пустяком!
— Иногда. Это верно. Но иногда все становится гораздо серьезнее. Так, например, где-нибудь там, в дальнем лесу, для бригады могут установить невыполнимую норму выработки, или у вас появится начальник, который будет воровать продукты у военнопленных. Иногда через некоторое время такая бесхозяйственность устраняется. Но пока суд да дело, туда посылают всех, кто попал в черный список.
Я хотел бы вдолбить в голову этого человека, который все-таки должен иметь представление о жизни, что в лагере нужно вести себя осмотрительнее. Разве могу я оставаться безучастным, когда слышу их неосторожные разговоры, которые могут накликать на них беду?
— Или, с другой стороны, есть хорошая работа. Возможно, осенью в каком-нибудь колхозе, где пленные смогут пару недель наесться досыта. Кого мы пошлем? — задаются вопросом немецкое руководство лагеря и антифашистский актив. «Тех, кто больше всех нуждается в этом, и, конечно, порядочных парней!»
Дружище Виддерих, вы не можете себе представить, в каком детском саду вы здесь живете по сравнению с другими лагерями!
Итак, вот это порядочные ребята!
Но может быть, они когда-то говорили, что нигде так много не спекулируют и не крадут, как в России?
И вот, услышав это высказывание, какая-нибудь свинья уже успела донести куда следует. И порядочные ребята попадают в черный список!
— Я точно знаю, — он делает ударение на слове «точно», — что вы, активисты, вычеркиваете фамилии людей, подлежащих отправке в лучшее место. Ведь русские не занимаются такими подлостями! Их это не волнует! — Уроженец Рейнской области теперь тоже идет ва-банк.
— Еще как волнует! Но ведь ты, надеюсь, сам понимаешь, что актив просто обязан вычеркнуть того, кто бегает по лагерю и всем рассказывает, что Советский Союз — это сплошной свинарник. Если актив не вычеркнет его из списка, то позднее это сделает политотдел. Но тот, кто при длительном пребывании в плену не будет хотя бы время от времени получать теплое местечко, тот подохнет! Ты это понимаешь?!
Я вынимаю сжатые в кулаки руки из карманов брюк. Уже не в первый раз мне приходится разговаривать таким тоном.
— Я прошу тебя, позаботься хотя бы о том, чтобы здесь поменьше болтали всякой ерунды! И пригляди за Малышом!
Но все мои старания напрасны. «Дорогой герр Виддерих» не может отказать себе в удовольствии, чтобы не показать русским фотографии, на которых он снят за рулем своей автомашины перед своим собственным домом. И русские считают его крупным капиталистом. То же самое они говорят и о любом рабочем, имеющем собственную квартиру в Германии. Герберт продолжает по-прежнему рассказывать всем, что в Осташкове дома разваливаются только потому, что русские слишком ленивы, чтобы отремонтировать кровельные лотки и водосточные желоба. (Просто почти не осталось мужчин после почти поголовной мобилизации. А с войны вернулось из таких русских городков и селений, где в конце войны забирали даже 17-летних, и в основном в пехоту, 2–3 человека из 10, из них 1 калека. — Ред.)
— И вот дожди вымывают первый кирпич, потом второй, пока дом не рухнет! Это типично для русских! — говорит Герберт. А это фашистское высказывание. — Но во всем обвиняют злых немцев! — добавляет он.
А Кубин доносит Борисову: «В городском лагере восемьдесят процентов военнопленных — фашисты!»
И Вилли Кайзер тоже фашист.
— И они еще собираются учить нас культуре! — искренне возмущается он.
Вилли занимается покраской домов и квартир в городе.
— Когда мне нужна зеленая краска, русские советуют мне брать свежий коровий навоз! — продолжает он.
Нет, они совершенно не согласны с тем, что именно война разрушила «цветущий советский сад товарища Сталина».
— Здесь дома ни разу не ремонтировались в течение тридцати лет! — сокрушается Герберт.
И все это произносится во всеуслышание, пленные искренне горячатся, когда заявляют: