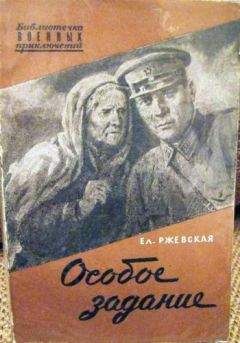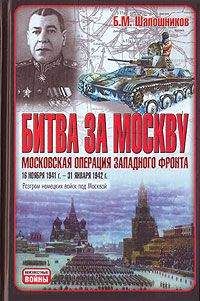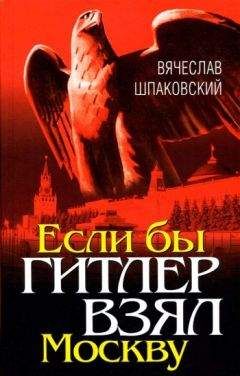Вячеслав Кондратьев - День Победы в Чернове
— Молодец! — одобрил я и как бы невзначай положил руку на её коленку — интересно, как отреагирует?
Она никак не отреагировала, видно, решив, что я сделал это случайно, а так как мне надо было наливать себе из фляги, то руку пришлось убрать, А жаль!
Себе я налил побольше и, глотнув все разом, заметно охмелел.
— Расскажите о себе, — попросила Лида. — Кто вы, что вы?
Я рассмеялся. Вроде я обрёл тон и манеру разговора с ней, а потому ответил с присущим мне обычно подтруниванием и над собой и над партнером по диалогу.
— Толком и сам не знаю — кто я? Художник… холостяк. Наверно, немного циник, как все холостяки, но не бабник… В общем, человек, не очень-то довольный собой…
— Решили пококетничать своими недостатками?
— Ну, о недостатках-то я умолчал… Их хватает. Но наряду с ними имею святое — война…
— Это уже что-то значит.
Она задумалась…
— Я знаю, что вы сейчас подумали, стоило ли оставаться живым в этой войне, чтобы так жить? Угадал?
— Я не так подумала.
— Но что-то вроде этого? Да?
— Я не люблю никого судить.
— Понимаю, — быстро сказал я, подчеркнув это слово. Она улыбнулась.
— Не поддразнивайте. Не вы первый… Но я действительно многое понимаю.
— Это-то и страшно. Боюсь умных женщин.
— Я понимаю не умом.
— Это еще старашнее, наверное. Хотите, плесну еще водочки?
— Нет. Мне и так ударило в голову.
— Это хорошо. Но еще лучше потерять голову. Вы теряли?
— Наверное, нет… — неуверенно произнесла она.
— Это плохо.
— Возможно, — так же неуверенно сказала Лида.
Я мог вести разговор в таком духе до бесконечности, но вдруг, посмотрев на неё, осёкся.
У Лиды было довольно простенькое русское лицо, миловидное, но не больше, и если б не какая-то настоящая интеллигентность в её облике, то и внимания не обратишь… Но вот как раз это, да и отсутствие женской опытности в ней, которое я сразу увидел, остановили меня. Не для легкого флирта эта женщина. Такие принимают всё всерьёз. А всерьёз мне вроде бы ни к чему…
— Извините, я выйду покурить, — сказал я и направился в тамбур. Там, открыв дверь, я вдыхал влажный весенний воздух и, вглядываясь в мелькающую придорожную полосу, как-то ясно представил — я же еду! Еду подо Ржев! В прошлое! И отошли сразу глупые мысли насчёт Лидочки, вся суета сегодняшнего дня, полупьяный разговор с приятелем. Только перестук вагонов, так давно не слышанный мною и пробуждающий воспоминания о длинных эшелонных дорогах, в которых пробыл, наверное в общей сложности несколько месяцев… Путь на восток в семь тысяч километров. Потом ещё дальше на восток, почти до Владивостока, потом путь обратно на запад до Урала, где формировалась наша стрелковая бригада, потом путь на фронт… А потом пути в санитарных поездах — с фронта до Москвы, с фронта до Иванова, с фронта до Свердловска…
Да, вся юность была в дорогах… В железных, с их станциями и полустанками, с протяжными гудками паровозов и стуками вагонов, а потом — холодных, тёмных, метельных, зимних и весенних с распутицей и грязью… Да, сколько их было, дорог — дорог разлук и дорог возвращений… И утром у меня будет дорога. И я жду от неё чего-то, сам не зная чего, но жду…
Может, дожидает меня там моя мина, пролежавшая двадцать лет? И притягивает меня, чтоб хоть и с опозданием, но выполнить свою работу? Да нет, глупости! Какие мины через двадцать лет! Хотя!.. Надо, пожалуй, сказать Лиде, чтоб шла за мной шаг в шаг. Чем чёрт не шутит — эхо войны…
Когда я вернулся, Лида сидела, поджав колени, положив на них локти рук и кистями поддерживая подбородок, какая-то затихшая и почему-то возбуждающая жалость… Да, если действительно она оставалась верной своему капитану, что было в её жизни? Одиночество, воспоминания, и больше ничего. Бедные женщины войны… Вашими любимыми выстланы поля России, вашими погодками, вашими женихами, вашими мужьями… Я растрогался и сказал ласково:
— Ложитесь, Лида. У нас впереди дальняя дорога…
Она подняла голову.
— Я не засну, наверное.
— Ну, хоть немного передохнёте. На какой полке вам удобнее?
— Всё равно.
— На верхней будет лучше. Давайте я вам помогу.
Она опёрлась мне на плечо, а я приподнял её. Короткая юбка немного задралась, и я невольно увидел её голую ногу выше чулка, но сразу отвёл глаза, а она смутилась… Верно, и вправду она была верна своему капитану. Сохранилась в ней какая-то девичья наивность и застенчивость, хотя и — «Я понимаю». Ничего ты не понимаешь, глупенькая… Целовалась ли ты хоть с этим капитаном? Возможно, и нет?
Я растянулся на нижней, но сон не шёл… Нападают на меня порой минуты какой-то растроганности, сентиментальности, и становится мне жалко всех — как сейчас почему-то стало жалко Лиду, — всех жалко, и живых и мёртвых, всех, по ком прошлась война… Но не себя. Своя жизнь кажется мне довольно лёгкой, ненагруженной, что ли… И верно, деньги достаются мне, пожалуй, легче, чем другим, семейных обязанностей нет, ребёнка я не родил, дерева не посадил, книгу не написал… Скольжу по жизни, не углубляясь особенно ни в себя, ни в неё. Что ж, видимо, таким уродился, а может усталь непроходимая, накопившаяся внутри за четыре года войны, да всё в пехоте-матушке, так и не прошла за эти двадцать лет? Потому и нету силёнок на что-то настоящее? Ну а другие как же? Ведь тоже воевали, а пишут и картины и романы, делают что-то стоящее…
Около пяти утра поезд подходил ко Ржеву, и я вышел в тамбур посмотреть на этот город, ни разу в жизни не виданный, но вроде родной. Город, за который полегла наша Отдельная стрелковая бригада, да не одна она…
И вот увидел я небольшой вокзал, маленькие домики около него, а потом, когда отъехали, — разбежавшийся по возвышенностям городок, рассыпанный то белыми, то красными кирпичиками домов, — Ржев.
Вернулся я в вагон, наверное, с совсем другим лицом, потому как проснувшаяся Лида поглядела на меня с каким-то удивлением и интересом.
— Я проспала Ржев? Почему не разбудили?
— Увидите на обратном пути. Надо собираться. Скоро Чертолино.
— Я сейчас. Я быстро. — Она довольно резво соскочила с полки, видимо, стараясь предупредить мою помощь, и достала свой рюкзак. — А у меня кофе! Этого вы, конечно, не захватили?
— Конечно, — развел я руками.
— Сейчас умоюсь и будем пить. Развязывайте пока.
Кофе из термоса был горяч и ароматен. Я с удовольствием прихлебывал его из маленькой чашечки, закусывая печеньем. Я-то, конечно, ничего сладкого купить не догадался. Даже белого хлеба не взял, и вёз с собой буханку черняшки.
Мы заранее вышли в тамбур с вещами и смотрели на проплывающую мимо землю. Еще попадались вдоль пути огромные воронки, из которых тянулись деревца. Если б не они, говорящие, сколько лет прошло с тех пор, можно было подумать, что война прошла здесь совсем недавно. И эти воронки окунали в прошлое. В утомные эшелонные, дороги, когда глаза — в небо, в тошнотворном ожидании, немецких самолетов. Терпеть не мог бомбёжек по эшелону. Хуже не придумаешь. Деться некуда, особенно если на поле. Кроме придорожного кювета, никаких укрытий. И бьют-то по тебе, и ты весь на виду. Но ещё хуже, когда бомбят санитарный поезд. Тут уж ты совсем беспомощен. И обидно дюже — раненый уже, в тыл едешь, к жизни, а тут ухлопает прямо на больничной койке. Два раза мне доставалось так в санитарке. Жутко вспомнить.
Чертолино оказалось даже не станцией, а унылым, безлюдным, расположенным на голом месте полустанком. Вправо шла разъезженная, в ухабах, грязная глинистая дорога с рыжими лужами, но около неё вилась тропка более или менее сухая, проходистая, — по ней и тронулись.
Вдали узкой полоской виднелся лесок. Утро было солнечное, но прохладное и Лида зябко поёживалась в своём плащике. С подножки она спрыгнула, не дожидаясь моей помощи, видать, не очень приятны ей мои прикосновения. Ну и бог с ней! Не так мне всё это нужно.
Шли молча. Мне было не до разговора, и Лида это понимала. Только спустя час, когда подходили, уже к леску, она сказала:
— Вы знаете, мужчины войны казались мне какими-то значительными…
— Но во мне вы этой значительности не приметили, — перебил я, усмехнувшись.
— Откровенно сказать, вначале да, не приметила. Но вот когда подъезжали ко Ржеву и я вгляделась в ваше лицо…
— Очень тронут, Лидочка, — перебил я опять насмешливо.
Она вроде бы поморщилась от «Лидочки», но не звать же мне её по отчеству, как-никак помоложе она меня на четыре года…
— Я серьезно говорю, — проговорила она немного обиженно. — По-моему, вы взяли не очень хороший тон в разговоре со мной. Возможно, вы привыкли говорить так с женщинами…
— Простите, Лида… Действительно, привычка, — почувствовал я неловкость. — А вообще-то вы правы — значительного во мне нет. Так, самый обыкновенный грешный человек.