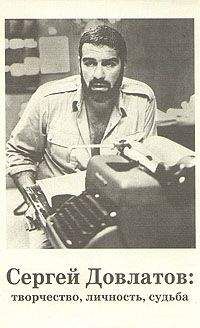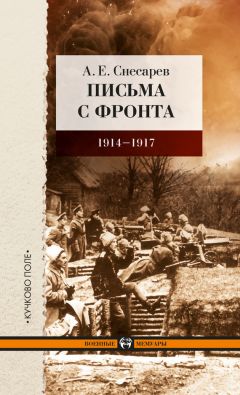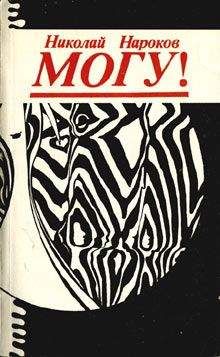Леонид Рабичев - Война все спишет
9 мая 1998 года
Забытое письмо от 17 декабря 1942 года
Нахожусь недалеко от передовой, пока во взводе у меня тридцать солдат. Из тридцати двадцать девять судились за кражи, мелкое хулиганство, поножовщину. Ребята — огонь!
Недавно заговорил с одним из них:
— Ты, Мусатов, в театре был когда-нибудь?
— А ты, что, был?
— Ну, конечно.
— Так туда же не пускают простых...
— То есть как не пускают, почему?
— Ну там царь, благородные...
— Да ты откуда, — говорю, — с неба, что ли, свалился?
Вспомнил Большой зал консерватории.
Из письма от 2 февраля 1943 года
...Получаю сухой паек: сухари, крупу, сахар, концентраты, мясные консервы, перец и горчицу и офицерский дополнительный паек: масло, консервы, папиросы. Варю на завтрак кашу, на обед суп и на ужин суп. Для лошади — овес, сено, соль.
Из письма от 28 февраля 1943 года
У меня есть валенки, меховая куртка и меховые варежки, ватные брюки, а фрицы мерзнут и голодают в сырых блиндажах. Еще немного — и они побегут!
Весна 1943 года
“...Два случая, два казуса войны.
Мы были безнадежно влюблены.
Проклятая бомбежка — миг и вечность.
Друскеники, деревня Бодуны.
Ты о Москве? А я о блиндаже.
Ты о работе? — Я о мираже.
Ты плакала? —
Спасибо за сердечность!
Через Сычевку, а потом по проселочным дорогам я должен был вывести свой взвод на Минское шоссе. Было вокруг еще много снега, и где почва глинистая — много грязи, довольно горячее солнце и быстрое таянье снега.
На свою единственную телегу я погрузил рацию, телефонные аппараты, на катушках километров сорок кабеля. Шинели скатали, припекало, трижды на просохших холмиках я останавливал взвод на отдых. Ложились на еще прохладную, но оживающую землю, но минут через десять вскакивали, стремительно стягивали с себя гимнастерки, рубашки, кальсоны и начинали давить насекомых. Все мы были завшивлены. Кто-то считал — сто, сто пятьдесят, во всех складках одежды, в волосах были эти гады и масса белых пузырьков — гниды.
Начинало темнеть, прошли около сорока километров, дорога через лес поднималась в гору, внезапно лес кончился, перед нами была стремительная какая-то речка, мост — две доски с перилами, за мостом на холме деревня. Лошадь распрягли, на руках перенесли телегу и груз, осторожно провели по дощечкам лошадь.
Деревня была живая, в каждом доме старухи и дети. Мой ординарец Гришечкин поставил лошадь в сарай, насыпал ей вволю овса, посолил, притащил охапку сена, а я быстро распределил людей по домам, выставил боевое охранение, лег на скамейку, завернулся в шинель и заснул, и все, кроме дежурных, заснули.
В семь часов утра вышел из дома и обомлел.
Речка разлилась, превратилась в море, от мостика ничего не осталось. Мы оказались на острове, со всех сторон почти до горизонта окруженном водой. О продолжении движения не могло быть речи. Приказал всем отдыхать. У меня был томик стихов Александра Блока. В избе на полке была Библия. Неграмотная старуха не была хозяйкой этого дома, ее деревню сожгли немцы.
Книга была ничья. Так как осведомителя Чистякова со мной не было, а желание было, решил почитать вслух. И случилось так, одним словом, что я читал своим солдатикам про Каина и Авеля, и “Соловьиный сад”, и “Песню песней”.
Вода ушла на третий день. Речка уже была не морем, а маленьким ручейком. До Минского шоссе еще было километров сорок, а до переправы через Днепр, до места сбора роты, еще километров двенадцать, и все это надо было пройти за один день. Но уже к середине дня начал отставать сержант Щербаков. Он плохо обернул ноги портянками. Водяные пузыри полопались. На ногах образовались раны.
В три часа дня он сел на землю и заплакал.
Это был огромный, излишне полный мужик.
Идти дальше он не мог. Вокруг не было ни одного госпиталя. Я оставил его в пустом деревенском доме и приказал через два дня быть на переправе через Днепр. Не прошло и получаса, как мы вышли на шоссе Москва — Минск. До переправы через Днепр оставалось двенадцать километров.
У восьми моих бойцов были натерты ноги. По шоссе шли порожние грузовики. Я остановил машину, усадил их в кузов и сержанту Демиденко приказал всех высадить на переправе через Днепр и ждать, пока я со взводом не подойду. Через два часа я был на переправе, но ни Демиденко, ни инвалидов там не было. На высоком берегу Днепра было много пустых немецких блиндажей.
Я оставил взвод у переправы, приказал ждать своего возвращения, а сам с ординарцем Гришечкиным перешел по понтонному мосту через Днепр. К середине дня все дороги развезло, мы шли по раскисшей глине, каждый шаг давался с трудом, иногда сапог нельзя было вытащить и приходилось ногу вытаскивать из сапога, потом сапог из глины, но в это время второй сапог уходил так глубоко, что уже из него приходилось вытаскивать ногу. Каждые сто метров ложились, казалось, что довольно легкие рюкзаки за спиной уже весили по два пуда, разожгли костер, просушили портянки, доели сухари — остаток сухого пайка, выданного на неделю, между тем как это был уже девятый день с момента его получения.
Преступление и наказание
Капитан Рожицкий не мог понять, почему и как я потерял половину своего взвода. Мой аргумент, что мне жалко было натерших мозоли на ногах людей, казался ему чудовищным, мое объяснение причины задержки — три дня в деревне, окруженной бурлящими водами — смехотворной.
Кратчайший маршрут движения, который я сам выбрал по карте, возмущал его и расценивался им как злонамеренное самоуправство. Теперь я и сам понимал, что в сумме все мои действия были преступны и что мне не миновать суда военного трибунала, разжалования, штрафной роты. Рожицкий тут же подписал приказ о моем смещении с должности командира взвода, о десятисуточном аресте и передал остатки моего взвода под командование моему другу лейтенанту Олегу Корневу.
Счастье от сознания исполненного долга, любовь и уважение вверенных мне и обученных мною солдат, еще недавно придававшие мне уверенности, улыбающаяся мне фортуна, радость от того, что я вопреки неуклюжести, интеллигентности стал боевым офицером — все летело к чертовой матери.
Дальше я не помню, что было, ходил, как в тумане, выполнял какие-то мелкие поручения, ждал решения своей участи. Совершенно не помню, как я вдруг стал командиром взвода Олега Корнева, а Олег стал командиром остатка бывшего моего взвода и взвода лейтенанта Кайданова, а того куда-то послали. В общем, вопрос с трибуналом замяли, но что-то уже навсегда погибло. Люди Олега Корнева плохо знали меня, помкомвзвода старшина Курмильцев не выполнял моих приказаний. Между тем, весеннее наступление продолжалось, дороги с каждым днем становились все доступнее.
Деревня БодуныШесть фугасных бомб и я —
вот сюжет моей картины,
островки травы и глины,
небо, дерево, земля,
дым — одна, осколки — две,
дом и детство в голове,
сердце удержать пытаюсь,
землю ем и задыхаюсь,
третья? — Только не бежать —
это смерть, лежи, считая,
третья, пятая, шестая...…
Мимо. Выжил. Можно встать.
И осколок,
который летел в меня,
угодил в живот
моего коня.
Я достал наган
и спустил курок.
На цветах роса,
а в котле фураж,
три кило овса.
Белорусский фронт.
Сорок третий год.
Когда появились немецкие бомбардировщики, мой друг, командир второго взвода моей роты Олег Корнев лег на дно полузасыпанной пехотной ячейки, а я на землю рядом. Бомбы падали на деревню Бодуны. Одна из бомб упала в ячейку Олега. На дереве висели его рука, рукав и карман с документами. Но в деревне располагался штаб дивизии и приданный к штабу дивизии его взвод. Я начал собирать его людей. Тут появилась вторая волна бомбардировщиков. Горели дома, выбегали штабисты. Перед горящим сараем с вывороченным животом лежала корова и плакала, как человек, и я застрелил ее. После третей волны бомбардировщиков горели почти все дома. Кто лежал, кто бежал, те, кто бежал к реке, почти все погибли. Генерал приказал мне с моими телефонистами и оставшимися в живых людьми Олега Корнева восстановить связь с корпусом. Под бомбами четвертой волны “хейнкелей” мы соединяли разорванные провода.