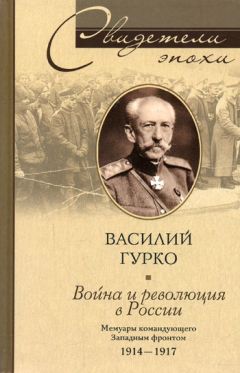Анатолий Медников - Открытый счет
Война давно загнала их в норы бомбоубежищ, в подвалы домов. Молодые рядились старухами, горбились, одевались похуже, и, глядя на них, Эйлер всё чаще с болью в сердце вспоминал свою Ганни, которая там, за Одером, тоже, наверно, боится выглянуть днём на улицу.
Что война несёт женщинам? Страх! Страх перед бомбёжкой, перед эсэсовцами, перед полицией и в ожидании прихода русских.
— Бедная Ганни! — вслух вырвалось у Эйлера.
— Что ты там бормочешь? Посмотри-ка, кто там болтается на виселице, у тебя острее зрение, — толкнул локтем Мунд.
Эйлер вгляделся. Действительно, там впереди, перед зданием комендатуры, на деревянной виселице, слегка раскачиваемой ветром, висел труп военного. Рядом не было часовых, и мертвец, вытянувший руки по швам, казался единственным бессменным караульным на этой площади…
— Наш офицер, господин штурмбанфюрер… вот только не могу различить погон.
— Вижу, что наш, — пробормотал Мунд.
К самой виселице они не подошли, остановились поодаль. Крупная надпись на доске, укреплённой на груди покойника, извещала:
"Начальник Бранденбургского гарнизона полковник Цильнер вчера предлагал гарнизону сдаться русским. За что и повешен. Вот что ждёт всех изменников и дезертиров!"
— Так! — шумно выдохнул Мунд. — Значит, это сам начальник гарнизона!
— Город всё равно сдадут завтра, послезавтра… Он, наверно, хотел избежать напрасных жертв!..
— Фюрер запретил сдаваться, — изрёк Мунд, и Эйлер осёкся. Он не посмел сказать Мунду, что они ведь тоже, по сути дела, дезертиры, убежавшие из Берлина. Есть люди, которым трудно возражать, такую слепую ярость они вкладывают в каждое своё слово.
Полковнику Цильнеру было, должно быть, около пятидесяти. Посиневшее его лицо с седой щетинкой усов и вылезавшими из орбит глазами словно бы в упор смотрело на Эйлера.
— Вы пойдёте в комендатуру, господин штурмбанфюрер?
— Я хотел увидеть… этого Цильнера. Видишь ли, Эйлер… я знал его немного раньше. Хотел именно с ним поговорить… Но раз такое дело… Лучше двинемся побыстрее в Ней-Руппину, — ответил Мунд.
…Когда они поспешно покинули Бранденбург, над городом и рекою Хафель сгущались сумерки. Так же, как и сейчас над Эльбой. Наползал туман, усиливая ту серую пелену, что висела в воздухе и размазывала очертания деревьев и берега.
— Переправимся сегодня в тумане, это удачно. — Мунд клацал зубами, точно от озноба, хотя в лесу и не было холодно. — Я договорился с одним капитаном, он берёт нас в лодку со своими людьми.
— Господина Деница мы не увидим больше? — спросил Эйлер, повинуясь внезапно появившемуся у него желанию подразнить самоуверенного штурмбанфюрера, умеющего так быстро менять свои суждения, и всякий раз у него выходило, что он прав.
— Иди ты к чёрту со своим Деницем! — выругался Мунд.
— Ну, ладно, — покорно согласился Эйлер.
Они сидели в оставленном кем-то шалаше, и, прислушиваясь к свисту ветра в лесу, Эйлер вдруг вспомнил радиопередачу русских на Одере и то, как Дениц приказал стрелять батарее на голос диктора, его жены и детей. Возможно, он тогда и убил их, пока Эйлер со слезами валялся у него в ногах, умолял гроссадмирала прекратить огонь.
И, припомнив это, Эйлер тихо застонал, как от боли.
Потом ему вспомнился фюрер, не открывая рта пославший на бессмысленную смерть мальчишек из школы морских курсантов, и русский офицер-танкист, давший Эйлеру кусок хлеба, и труп полковника Цильнера, хотевшего сохранить от разрушения Бранденбург.
Он многое вспомнил за двадцать минут, и всё пережитое Эйлером за последние месяцы поднялось в нём такой бурной волной тошноты и омерзения, что он вскочил на ноги, словно бы хотел сбросить с плеч своих давившую его тяжесть. Много, слишком много хлебнул он на фронте, в Шведте, в Берлине и на этой дороге бегства к Эльбе. Так много одно сердце не выдерживает, оно или разорвётся, или окаменеет.
"Пусть уж лучше разорвётся!" — подумал Эйлер.
— Пошли, — толкнул его Мунд.
Стемнело. Они вышли к берегу. Резко усиливался ветер и разогнал туман. Выглянула луна. Берег серебристо заблестел. Точёные блики двигались по металлическим уключинам старой рыбацкой лодки.
— Скорее, скорее! — торопил Мунд.
Эйлер подождал, пока все, кто вышел из леса к лодке, влезут в неё. И когда в лодку грузно прыгнул Мунд, Эйлер молча повернулся спиной и не торопясь зашагал к лесу.
— Куда, мы отплываем] — крикнули ему.
"Домой, — ответил про себя Эйлер, — домой, домой, а там будь что будет. Счастливой вам переправы, господин штурмбанфюрер, и чтобы мне не встречать вас больше до самой смерти".
— Стой, мерзавец! — завопил Мунд. — Идёшь сдаваться? А присяга?
Эйлер обернулся.
— Не ори, взбудоражишь американцев, тебе же будет хуже, — крикнул он в ответ и, повинуясь инстинктивному чувству опасности, бросился на землю.
Над головой его просвистела автоматная очередь.
— Убивать! За что?
Эйлер поднял свой автомат и ударил из него короткой очередью по темнеющему силуэту отплывающей лодки.
— Будьте вы все прокляты! — закричал он во весь голос и, не пригибаясь, бросился бежать к лесу, чтобы не видеть ни берега, ни лодки, ни Мунда, который от бешеной своей злобы может кинуться за Эйлером в погоню.
"Домой, домой, домой!" — вопило всё его существо. Он ломился в непроглядную темень леса. Ветви царапали ему лицо. Стволы деревьев больно толкали его. Эйлер падал, вскакивал и снова бежал, пока горячее сердце не подошло к самому горлу, и, чувствуя, что задыхается, Эйлер упал лицом в траву…
20Пока Зубов поднимался по неудобной верёвочной лестнице, изгибавшейся под тяжестью его тела, он весь ещё был во власти порыва, охватившего его, и не думал о том, куда он попадёт. Между тем он влезал в казематы старинной и зловещей крепости.
За дверью небольшого балкона и коридором, через который провели парламентёров, Зубов увидел металлические двери с тяжёлыми металлическими засовами. За ними могли оказаться и своеобразные бастионы для ведения огня, и просто тюремные камеры, ныне приспособленные для каких-либо нужд располагавшегося здесь гарнизона.
Вскоре Зубова и Венделя ввели в продолговатую, угрюмую комнату с низким бетонным сводом, без окон и с единственной дверью, через которую можно было пройти, только слегка согнувшись.
Здесь вдоль левой стены выстроилась группа военных чиновников в чине майоров и подполковников и несколько, судя по погонам, строевых офицеров. Между ними были и эсэсовцы, однако никто из них не рискнул сейчас надеть чёрный мундир.
— Господа, — обратился к ним комендант Юнг, — перед вами представители русского командования с предложением о капитуляции.
В комнате наступила зловещая тишина. Зубов и Вендель почувствовали себя в фокусе всеобщего внимания. Два десятка глаз, сумрачных, напряжённых, более или менее откровенно враждебных, впились в них.
— О положении в Берлине вы знаете, господа, — тусклым голосом продолжал Юнг, — возможно, что война подходит к концу, по мы должны оставаться верными своему долгу и присяге. Весь гарнизон остаётся в цитадели, пока от Верховного командования немецкой армии не поступит общий приказ о капитуляции. Но я не препятствую желанию русских парламентёров сделать нам подробные разъяснения.
И Юнг кивнул Зубову, приглашай его начать речь.
Но Зубов прежде обежал взглядом ряды стоявших перед ним немцев. И увидел замкнутые, словно бы покрытые каким-то серым налётом лица, в большинстве своём немолодые. Почти у всех мятые, давно не чищенные мундиры.
"Да это военные чиновники, — подумал Зубов, — так бы они и оставались неказистыми тыловиками, если бы в силу случайностей войны не оказались бы подневольными защитниками последней в Германии и в этой войне цитадели".
— Господа, перед вами человек, который все последние дни находился в Берлине и многое видел, — начал Зубов, стараясь таким вступлением расположить этих офицеров к доверию. Он хотел, чтобы голос его звучал искренне. — Город падёт с часу на час. Сопротивление берлинского гарнизона, если оно ещё продолжается, бессмысленно, так же как и ваше, господа! Я хочу вам сообщить, что в освобождённых районах Берлина налаживается нормальная жизнь: открываются магазины, введены продовольственные карточки. Теперь о положении в Шпандау. Наши войска, обтекая цитадель, ушли далеко на запад. Взят Бранденбург, взят Кладов. Его гарнизон капитулировал. Один из его командиров, полковник Ганс Мюллер-Андерсен, находится у нас в штабе, и вы могли бы с ним поговорить о положении на немецком фронте, которого, по сути дела, уже нет, он распадается.
Зубов сделал паузу — хотел почувствовать, налаживается ли хоть какой-нибудь контакт с "аудиторией". Он привык допрашивать захваченных в плен гитлеровских офицеров, а не агитировать их, находясь в их же крепости. Как пробиться словом через наглухо застёгнутые серые френчи — к сердцу и разуму военных чиновников, запуганных эсэсовцами, одуревших от гитлеровских кровавых приказов, от неизвестности и страха перед ожидавшим их возмездием?