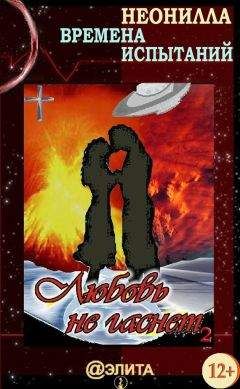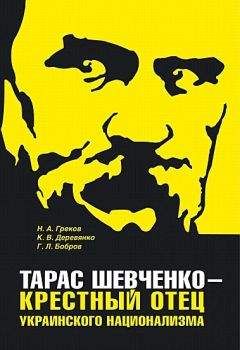Тарас Степанчук - Наташа и Марсель
Ночью Шакала забрали к себе охранники, а утром, подкрепившись остатками их завтрака, предатель возвратился в сарай.
К этому времени пригнали новую партию военнопленных, и мы с ними куда-то пошли в колонне, которую охраняли пешие автоматчики с собаками и несколько мотоциклистов. В голове колонны следовала машина с крупнокалиберным пулеметом.
С утра до вечера мы брели по проселочным дорогам, делая один-два коротких привала. Ночами нас загоняли в церкви или большие сараи, и теснота была такая, что приходилось стоять, прижавшись друг к другу. Наутро колонна возобновляла марш, оставив на месте ночевки десятки трупов. Тех, кто обессилев, не мог идти дальше, пристреливали. В пути нас почти не кормили, о медицинском обслуживании не было и речи.
— А где-то, на нашей земле, наш завтрак «переспевать», товарищ старшина, — шутливо пожаловался Вишне Григорий Васунг…
Молва о бедственном положении военнопленных, наверное, опережала колонну, и в каждой деревне, через которую мы проходили, женщины выносили нам еду, медикаменты. Конвоиры кричали на них, стреляли в воздух, но остановить этот порыв мирных жителей не могли.
В одной из деревень, названия ее не знаю, жители заранее оставили продукты и ведра с водой на дороге, но гитлеровцы ведра опрокинули, а продукты забрали себе. Тогда одна женщина с кусками хлеба бросилась к нам.
— Родимые мои… — плача, причитала она.
Трое пленных шагнули ей навстречу и были скошены автоматными очередями. Женщина успела спастись. С головной машины по колонне ударил крупнокалиберный пулемет, и затылок впереди идущего красноармейца взорвался мозгами и кровью. Охранники тоже открыли огонь, по жителям и просто по домам.
Когда миновали деревню, за нами, разрастаясь, вспыхнуло зарево.
* * *На Нюрнбергском процессе нацистские главари сидели на скамье подсудимых согласно рангам и чинам, которые они имели в «третьем рейхе».
Одно место на первых заседаниях Международного Трибунала пустовало — приболел бывший начальник главного управления имперской безопасности обергруппенфюрер СС Кальтенбруннер. Когда этот палач выздоровел и утром 10 декабря 1945 года усаживался на отведенное ему место, он кивком головы поприветствовал своих коллег и протянул руку фельдмаршалу Кейтелю.
Однако тот возмущенно отвернулся, всем своим видом показывая Трибуналу, будто он, фельдмаршал, всего лишь «чистый» военный стратег и не имеет ничего общего ни с эсэсовскими главарями, ни с теми преступлениями, которые они творили.
Но гитлеровский фельдмаршал лгал. Именно он, Кейтель, подписал в мае сорок первого директивы «Об особой подсудности в районе «Барбаросса» и «Относительно обращения с ответственными политическими руководителями». Первая директива предоставляла право военнослужащим вермахта безнаказанной расправы с мирным населением и исключала ответственность за совершенные злодеяния, а вторая предписывала: «Политические руководители в войсках не считаются пленными и должны уничтожаться самое позднее в транзитных лагерях. В тыл не эвакуируются».
Именно он, Кейтель, поучал тогда своих головорезов: «Человеческая жизнь на Востоке ничего не стоит. Искуплением за жизнь немецкого солдата, как правило, должна служить смертная казнь 50-100 коммунистов. Способ казни должен увеличивать степень устрашающего воздействия».
Свершился суд народов. Фельдмаршал Кейтель был повешен во дворе Нюрнбергской тюрьмы на той же виселице и в той же петле, что и обергруппенфюрер СС Кальтенбруннер. А сегодня на Западе пытаются утверждать, будто фашистский вермахт неповинен в чудовищных злодеяниях на нашей земле, и эти злодеяния — дело рук СС, и якобы только СС.
Но ведь лагеря военнопленных находились в ведении именно вермахта, и это его «чистые» стратеги планировали в них массовые убийства беззащитных людей! Нельзя спокойно читать запись «Военного дневника» начальника гитлеровского генерального штаба сухопутных войск генерал-полковника Гальдера от 14 ноября 1941 года: «Русский тифозный лагерь военнопленных. 20000 человек обречены на смерть. В других лагерях, расположенных в окрестностях, хотя там сыпного тифа и нет, большое количество пленных ежедневно умирают от голода. Лагеря производят жуткое впечатление». Нацистские военные преступники превратили лагеря военнопленных в фабрики смерти. И мне довелось увидеть это своими глазами. Пережить самому.
* * *В Новгород-Северский нашу колонну пригнали значительно поредевшей. Спать приказали прямо на земле, в овраге на окраине города. Мы с Арефиным прилегли в небольшой выемке и, прижавшись друг к другу, заснули.
Разбудили нас одиночные выстрелы. Открыли глаза, а вокруг — бело, выпал первый снег. С трудом встали, огляделись по сторонам. Многие из наших товарищей замерзли. Гитлеровцы проверяли выстрелами неподвижные тела, покрытые снежным саваном.
Вместо завтрака нас построили на поле, напротив автомашины, в кузове которой был установлен крупнокалиберный пулемет. Тут же находились охранники с собаками и два офицера, младший по возрасту и чину разговаривал по-русски. Почтительно выслушав фразу старшего, он выкрикнул:
— Комиссары, коммунисты, евреи — выйти из строя!
Все замерли. Неслышно падал, густея, пушистый крупный снег. И в этой белой тишине из строя выплеснулись издевательские, торжествующие слова Шакала:
— Эй, Васунг, чего ж ты скромничаешь? Не стесняйся, иди поцелуй ручки панам офицерам! Может, они тебя живым оставят — сапоги себе шить?
Гриша растерянно улыбнулся, шатаясь, вышел из строя и вдруг, расправив плечи, решительно направился к Шакалу. Плюнул ему в лицо и, сжав кулаки, зашагал к офицерам, яростно крича:
— Сейчас я эту сволоту поцелую! Сейчас я им покажу, как умирает советский человек!
Вытащив пистолет, младший офицер спустил курок. Осечка. Гриша круто повернулся к нам:
— Всю жизнь я был трудящимся человеком. Теперь я красноармеец! Считайте меня, товарищи, членом вэкапэбэ…
Гриша принял в себя автоматную очередь и с застывшей на лице улыбкой остался лежать на древней новгород-северской земле. Да не один в тот день остался — уже после Победы вырос на том поле обелиск…
— Комиссары, коммунисты, евреи!.. — опять прокричал офицер. Выдержав паузу, он от правого фланга пошел мимо нас, вызывая из строя каждого десятого.
В числе обреченных оказался и Савелий Дубинский. Вместе с товарищами он выстроился чуть в стороне от нашей шеренги, готовясь встретить неизбежное.
— Позвольте обратиться, господин офицер!..
Из нашей шеренги лисьим ходом выскользнул Шакал, двумя пальцами смахнул с головы пилотку и ткнул ею в сторону Савелия:
— Этот солдат сидел у большевиков в тюрьме и является врагом ихнего строя. Он, как и я, готов служить великой Германии и фюреру Адольфу Гитлеру.
— Ну, чево мелешь? — лениво возразил Савелий и умолк.
Младший офицер что-то сказал старшему, и тот согласно кивнул.
— Пускай выходить, — разрешил офицер. — Мы подарить ему жизнь.
— Да как же так… — засомневался Савелий, оглянувшись на товарищей. Но Шакал взглядом указал ему на Васунга. Застывшая улыбка Гриши была ужасной. И Савелий, косолапо загребая пушистый снег, пошел к Шакалу.
Офицер покосился на Шакала и поднял черный палец в кожаной перчатке:
— Один юде, еврей — и ты получил жизнь. За этого, — он показал пальцем на Савелия, — один коммунистен.
— Завсегда пожалуйста, господин офицер!
Шакал всей пятерней указал на старшину Вишню:
— Этот мне трибуналом грозился. Партейный. У себя на Украине зажиточных хозяев раскулачивал!
Как умудрился старшина Вишня уберечь в плену трофейный браунинг? Выйдя из строя, он выстрелил в старшего офицера, и тот рухнул замертво.
Житейская практичность сказалась у Вишни даже в смертную минуту: цель он для своего выстрела выбрал самую стоящую — старшего офицера. Наверное, выстрелил он последний патрон и, не желая даваться на муки живым, подчеркнуто тщательно целился в другого офицера, пока не скрестились в нашем старшине сразу несколько автоматных очередей.
С автомашины по обреченным басовито задудукал крупнокалиберный пулемет. Когда он умолк, среди упавших приподнялся и сел молодой лейтенант. Пуля раздробила ему челюсть, он захлебывался кровью и отчаянно кричал.
Поколебавшись, офицер протянул Шакалу перезаряженный пистолет и приказал:
— Шис! Добей!
И Шакал добил.
* * *На станции Новгород-Северский нас погрузили и заперли в неотапливаемые товарные вагоны, и четверо суток черепашьей скоростью мы тащились по морозной неизвестности.
Под вечер наш эшелон прибыл в Гомель, и тех, кто мог еще идти, погнали через город. Когда мы в густеющих сумерках огибали большой парк, Садофий Арефин тронул меня за плечо: