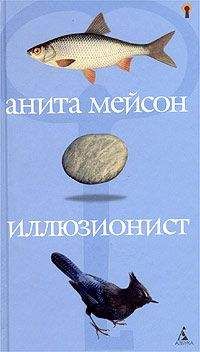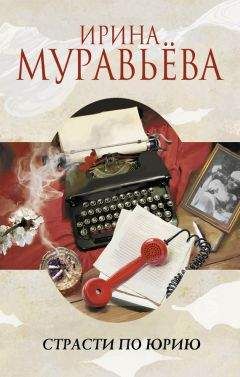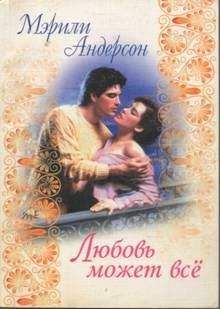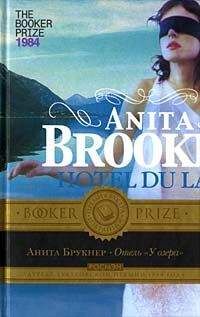Анита Мейсон - Ангел Рейха
Он знал почему.
Через две недели трибунал отложил рассмотрение дела на неопределенный срок. Настал сентябрь, и мы вступили в войну.
Глава четырнадцатая
Никто не хотел этой войны. Люди на улицах казались подавленными. Нам сказали, что войну развязала Польша. Истории о зверствах поляков несколько месяцев не сходили с газетных страниц.
У Франции был мирный договор с Польшей, поэтому в войну оказалась втянутой Франция. Британия оказывала Польше поддержку, но никто не ожидал, что она объявит Германии войну. Она объявила.
Я увиделась с Эрнстом на следующий день. Он все водил и водил зажженным кончиком сигары по пепельнице.
– Это ужасно, – сказал он. – Нам не выиграть войну. В конце концов в дело вмешается Америка. Никто здесь не понимает, что такое Америка. Они там не были.
Атмосфера в Рехлине изменилась. Все мои коллеги пребывали в великом возбуждении. Случившееся накладывало на них определенные обязательства, от которых никто не мог отказаться. Я видела, как они распрямляют плечи под грузом новых обязательств.
Тот факт, что война действительно началась, отрезвил меня. Полагаю, как и большинство людей, я до последней минуты надеялась, что этого можно избежать, что Гитлер вытащит очередного кролика из шляпы. Никаких кроликов не появилось, и никто не мог сказать, как долго война продлится. Оставалось только вздохнуть поглубже и продолжать жить.
Неожиданно для себя я стала задаваться вопросом, что же такое война. Все говорили о ней с видом знатоков как о некоем совершенно понятном явлении. Мне она казалась явлением не таким уж понятным.
Она была не тем, чем казалась; в этом я была уверена. Звон брони под ударами снарядов, бегущие фигуры в клубах дыма, треск пулеметов. Все это производило впечатление полного хаоса. Логика войны заключалась в стратегии, но в стратегии, непостижимой для человеческого разума. Другими словами, война казалась чем-то большим, чем вовлеченные в нее люди; она их превосходила. Именно она использовала людей, а не наоборот. Мне представилось древнее воплощение войны в образе божества.
Если она божество, то божество мужского пола.
Я шарахнулась прочь от этой мысли, словно обжегшись. Потом заставила себя вернуться к ней и задуматься.
Вот оно, всеобщее мнение, с которым я боролась с первого дня мой сознательной жизни: есть дела, которыми предназначено заниматься мужчинам, и есть дела, которыми предназначено заниматься женщинам; а следовательно, любая попытка преступить черту, проведенную между первыми и вторыми, является преступлением против самой природы. Если бы я пошла на поводу у этого мнения, я бы уничтожила себя как личность; но я не могла не понимать, что оно властвует практически над всеми умами. Мне приходилось тратить много времени на попытки примириться с ним, не вступая в открытую конфронтацию.
И вот теперь мне явилась эта мысль.
Нет, не на уровне ясного сознания. Как и все навязчивые мысли, она зародилась в виде сосущего ощущения под ложечкой. По каким признакам вы вдруг понимаете, что находитесь на чужой территории? Там другие запахи, другие ритмы. Вы знаете, что не знаете, как проникнуть в глубину чужой территории. Я хорошо разбиралась в самолетах, они не представляли для меня загадки. Но когда началась война, с моими самолетами что-то случилось. Или мне просто так казалось. Они все вдруг словно повзрослели. Внезапно я засомневалась, что сумею найти с ними общий язык, засомневалась, что они предпочтут разговаривать со мной, а не с другим пилотом. Никто не внушал мне такой мысли; она просто неожиданно пришла мне в голову. Она пришла мне в голову однажды, когда я прошла под крылом и двинулась вдоль фюзеляжа бомбардировщика «дорнье», новое шасси которого собиралась испытывать. Я шла, вдыхая запах машины и ведя ладонью по фюзеляжу с нарисованным на нем черным крестом; и она пахла войной. Она дышала холодной целеустремленностью, непостижимой моему пониманию. Я впервые увидела в этом бомбардировщике часть системы, на которую мне позволили работать, но которой мне никогда не разрешат управлять. На мгновение старый гнев всколыхнулся в моей душе, но потом я подумала о другом. Если бы меня не исключили из этой системы, захотела бы я на самом деле стать ее частью? Не показалась бы она мне бесплодной и даже скучной?
Но если война была божеством, я пока еще находилась в храме этого божества. Когда же мое святотатственное присутствие заметят? Или все они слишком заняты, чтобы обращать на меня внимание? Или они уже давно смирились с моим присутствием и признали меня человеком вполне сносным, пусть и не самым лучшим?
Потом мне пришло в голову, что они будут нуждаться во мне тем больше, чем дольше будет продолжаться война. Многие мужчины в Рехлине уже ушли добровольцами на военную службу, и многие собирались сделать то же самое. Практически только об этом все вокруг и говорили.
Ладно, такое можно было предположить, подумала я, и с этой мыслью на меня вдруг нахлынуло чувство, заставившее меня обмереть и ясно понять, чего именно я хочу.
Я хотела участвовать в боевых действиях. Невозможность осуществить желание просто бесила меня. Даже считая войну делом абсолютно бессмысленным, я все равно хотела сражаться. Нет, это был не патриотизм, но желание приобрести опыт, превосходящий весь мой прежний опыт. И желание проверить себя, ибо я не знала пределов своего мужества. Моя работа часто требовала мужества, но я всегда сознавала известный компромисс между мужеством и мастерством. Война же – совсем другое дело.
Я хотела знать, сумею ли я выдержать тяжелейшее из всех испытаний. Наверное, мужчины чувствовали то же самое. И тогда я поняла, что война служит именно для этого.
В первый день войны транспортный планер, который я испытывала, получил статус стратегически важной машины. Заводы получили заказы на дюжины таких планеров. Ходили слухи, что правительство дало добро на его использование в условиях боевых действий.
Примерно тогда же опытные планеристы стали исчезать один за другим в неизвестном направлении.
Вторжения во Францию, которого все мы ожидали, не произошло. После ряда молниеносных побед, одержанных нашими войсками в Польше, наступило тревожное затишье. За летом пришла осень, а за осенью зима. Планеры мирно дремали в ангарах.
Однажды я получила странное письмо. Оно дошло до меня по тайным каналам, о которых я и по сей день могу лишь догадываться, и было написано одним моим старым знакомым, планеристом. Он писал так, словно я была его последней надеждой. И не только его.
Планеристов держали в изоляции на военной базе, в условиях строжайшей секретности, подготавливая к некой военной операции на Западе. На самом деле их никак не готовили к заданию, не учили летать под зенитным огнем, не давали возможности практиковаться во взаимодействии с пилотами буксировочных самолетов, хотя взлет обещал быть опасным; и никто их не слушал, поскольку они в лучшем случае носили звания младших офицеров, а многие так и вовсе были гражданскими лицами.
Люди, ответственные за операцию, явно ни черта не смыслили в планеризме.
Представлялось совершенно очевидным, что множество планеристов просто погибнет бессмысленной смертью.
Пилот, обратившийся ко мне за помощью, умолял меня сделать все возможное. Наверняка кто-нибудь в министерстве прислушается к голосу разума, писал он.
– Я ничего не могу поделать, – сказал Эрнст. – Мне очень жаль. Конечно, ситуация абсурдная. Но она вне моей компетенции, а в министерстве все крайне болезненно реагируют на вещи такого рода.
Я знала это. Но все равно надеялась, что он найдет выход.
– Попробуй обратиться к фон Грейму, – сказал Эрнст. – Вообще-то я думаю, что тебе следует обратиться к Мильху. Но если ты пойдешь к Мильху, не говори, что это я послал тебя к нему.
– Но кто же несет за это ответственность? – спросила я.
– Ответственность? – Эрнст недоуменно вытаращился на меня. Потом рассмеялся. – Да никто не несет никакой ответственности. Просто у нас так делаются дела. Чего ты хочешь? Чтобы операцией руководили люди компетентные?
У Эрнста были неприятности.
Новая должность накладывала на него обязательства, которые он не мог выполнить, и бремя непосильной работы, которое он мог лишь переложить на плечи своего заместителя Плоха. Или оставить все бумажки валяться на столе и уйти.
Но если он бросал все бумажки на своем рабочем столе, то, вернувшись на следующий день, неизменно заставал их на прежнем месте.
В течение трех или четырех месяцев всякий раз, заходя в кабинет Эрнста, я видела одну и ту же нетронутую стопку документов, лежащую на дальнем углу стола. Потом он придавил ее книгой. Это были документы из офиса Мильха, связанные с разработкой и производством «Ю-88». Другая стопка документов – похоже, так и не получивших хода, – относилась к проблеме рабочих площадей авиационных заводов. По всей видимости, нам не хватало рабочих площадей. Предложенное Эрнстом решение проблемы вызвало яростные возражения Мильха, который обрушился на него с бесконечным потоком напоминаний о специфике производства.