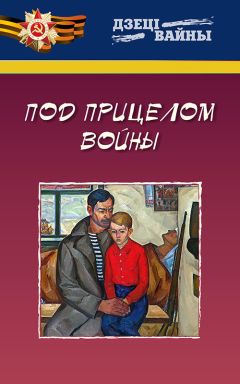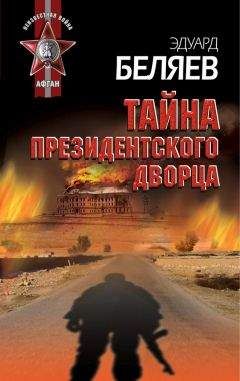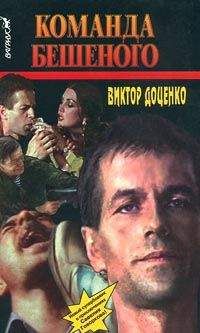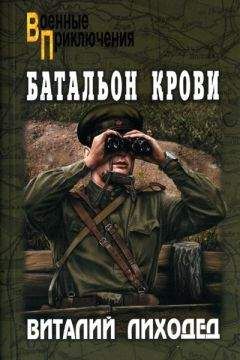Эдуард Беляев - Мусульманский батальон
Из трофеев и мне перепало — замполит Анвар Сатаров презентовал мне две перьевые ручки с письменного стола Амина, я их передал в музей истории Вооруженных сил. Не безвозмездно. Взамен мне показали китель Адольфа Гитлера, хранящийся в заказниках. Случилось какое-то невольное и довольно условное объединение, роднение двух диктаторов — большого и маленького. Застрелившегося и застреленного. В одном случае — под воздействием, в другом — при непосредственном воздействии «русиш» и «шурави». Что в переводе с немецкого и персидского языков — один черт: русско-советских… Сатарову — чтоб не было обид — я рассказал о передаче его подарка в музей.
— Правильно сделали. Плохо, что прячут в заказнике. Не выставят же они нашу стыдобу напоказ. Как и мундир Гитлера, как и его череп, как пеньюар супруги Николая Второго… Наш позор далеко спрячут.
Анвару нельзя было не поверить. В Советской Армии замполиты знали все и разбирались во всем. И в картофельных очистках, когда изобличали в недобросовестно исполняемой работе нерадивого солдата, отрабатывающего наряд по кухне, и в политике партии, когда на политзанятиях втемяшивали в ветреную голову тому же солдату величие задач и планов очередной пятилетки…
А еще ладно так, хотя и чуток докучливо, свысока, вздернув носик, вдалбливали солдату на фоне политической карты мира что-то насчет интернационального долга…
Я рассказывал об офицере, который «на семи ветрах» читал мне стихи Махтумкули. Он же в стане «мусульманского батальона» за крепким зеленым чаем, круто заваренным на костерке и пропахшим дымком (или то были запахи пепелища разоренного дворца?), показал книгу — прекрасный перевод с французского Мориса Ваксмахера.
— От «комитетчиков» осталась, забыл кто-то из них, — сказал, перелистывая потрепанные страницы, лейтенант.
Мы читали Ренана. «L'homme fut des milliers d'annees un fou, apres avoir ete des milliers d'annees un animal» — «Тысячелетиями человек был животным, чтобы потом еще тысячелетия провести в безумии».
Всполох тысячелетия — ночь безумства — был перед нами. Белые снега, гладкие, как сахарная глазурь, прикрыли буро-желтую кровь, похожую на конскую мочу на деревенском проселке, и припрятали следы атаки. Белым-бело окрест, и дом припорошенный. Черными язвами зияли бойницы обгорелых пустых оконных проемов. Остов сожженного БТР у подножия крученой дороги в гору, уткнувшегося смоленым курносым носом-передком в… ни во что. В лилейное безмолвие. Та, остановившая его намедни единственная преграда, — метнувшаяся из мгновений мраков ночи, когда Василий Праута, уподобившись сумасбродному всемогущему Зевсу, катал, разбрасывал по небу и земле шаровые молнии, — с ужасающим воплем влетела в бока, прорвалась вовнутрь, полыхнула, забрызгала огнем и осколками люд и металл, разметала все в тесной замкнутости брони, встукивая тела и головы солдат в грубое железо, и — поубивала. Основательно прогоревшая вчера еще машина отмылась пламенем пожарища от копоти, масляных подтеков, пороха в разорвавшихся снарядах и крови бойцов. Незаржавевшая пока еще банка, лишенная всякой грозности, стояла немощной и не стращала своей немотой и проявленным к ней неуважением. Издали, за метельной пеленой, БТР напоминал неуклюжий бабушкин ночной горшок, и под него ходили мочиться солдаты…
Посыпал снег. За его плотной завесой с рождественскими разводами — блестками, как это виделось в малолетстве, мерцал дворец. Поверженный, израненный боем и мертвый в победе. Он смотрелся декорацией, но не из детской сказки. Был дом тот замком-привидением. В нем, в этом заброшенном до поры обиталище войны, не могло быть самих привидений. Там не осталось ничего сущего, живого. Там даже не осмеливались бродить призраки и сникли духи…
Скажите, с каких столетий вести отсчет тысячелетию безумства? Скажите приблизительную дату, чтобы детям нашим подать надежду — мир меняется к лучшему. Хлеб в достатке на столе, золотая плаха солнечного лучика по утрам касается заспанных лиц наших сыновей и дочерей, и еще — никого не принуждают убивать, и никого не надо убивать…
А на титуле сборника Ренана владелец написал: «Книга Иванова»…
Не тот ли, часом, что окончил Сорбонну? Он, Иванов, его, Ренана, всего ли прочитал, постиг ли?.. Не проглядел ли чего главного? Тех же строк о тысячелетии, проводимом в безумии…
Эпилог
На том месте, где обитал «мусульманский батальон» — формировался, жил и служил, — теперь разместился отряд спецназа армии Узбекистана. Как утверждает Александр Александрович Коробейников (мы с ним общались в ноябре 2009 года), прослуживший в бригаде с 1974-го (тридцать четыре года, и два из них в Афганистане): «Армия как армия, не хуже других. Боевая подготовка на должном уровне. Совершаем прыжки, только вот технику десантировали крайний раз в 1997 году. Построили возле медпункта новую двухэтажную столовую. Из старых строений остался только штаб. А так вроде бы все по-прежнему, только люди поменялись, новая поросль в десантники подалась».
В середине восьмидесятых на территории располагался учебный полк, которым командовал, как похвалялись его подчиненные, легендарный подполковник Хабиб Холбаев. Позже «легенду» определят в один из районных военкоматов города Ташкента. Только после развала СССР о нем вспомнят и предложат должность командующего Армейским корпусом армии Узбекистана.
Тот «мусульманский батальон» жив: в прыжках с парашютом и в раскосых глазах, в воспоминаниях и бережливой памяти ветеранов, изредка — рукописях. А первые, истые «мусульмане» — офицеры образца 1979 года — вышли в запас. Сержанты, солдаты уволены еще много раньше, и — кто где. Узнал, что вместе они никогда не собираются, никаких праздников и годовщин, связанных именно с «мусульманским батальоном», не отмечают. Разве что эту, горькую, — день штурма дворца Тадж-Бек, дворца Амина. Единственную боевую задачу, ради которой их сбили в профессиональную стаю, готовили, тренировали, забросили и — швырнули в атаку. Ночную и, как оказалось, в навечно непроглядную тьму. Заложники чужой зловещей воли и невольно обреченные, они погружены во мрак пожизненной темницы — срама, и стороннего для них — бесчестия. Точнее, их погрузили, чтобы потом, чуть позже, не скупясь — это денег не стоит, — отметить наградами, и очень честно, с неприпрятанной корыстью, забыть. И не просто надолго забыть. Их, живых, похоронили, и — навсегда! Не пожаловав им счастливого случая ни отмолиться, ни отплеваться, ни отлаяться, ни отчураться. И потому эти безвинные «лиходеи поневоле» — вмажут, тяпнут, бахнут, зальют. Кто как и кто сколько может. Бог им судья! — всяк себе хорош.
Давайте на этом и закончим — мне надо валидол под язык положить. Дал слово своей жене и детям — никогда не возьмусь за перо и не вернусь в залы дворца. Мне путь туда заказан. Путь этот — в никуда. В немеркнущее, черт бы его побрал, даже с годами, бесславие!.. Там, в ночи полной луны — кровавой Селены, такой она являет вид каждый раз, проплывая над дворцом — в полнолуние бродит неприбранная душа пятилетнего мальчика и безутешная душа его отца. Я бы очень хотел, чтобы они встретились, притулились друг к другу, и пусть голова мальчика-духа возляжет и упокоится на груди отца-духа. И чтобы не было на свете и во тьме силы, способной разделить их и разорвать это нетленное союзничество мерцающего слияния душ. Неприкаянных доселе по злому року неправедной войны и людской — никогда-никогда не оправдываемой! — подлости, со знаком сознательно совершенного и до сих пор еще не замоленного, а потому и не отмщенного пока преступления. Перед одной — светлой, невинной детской душой, и другой — темной и греховной. Пусть они пребудут там в тиши и умиротворении и с улыбками на губах… От этой фантазии мне легче.
Мысль пришла однажды: милосерд Аллах, и воистину проявил себя таковым, прибирая к себе с земли и с груди отца тело маленького мальчика. Милосерд в том, что не дал ему долгих лет, обрекая тем самым на неизбывную свирепую боль и всежизненную неприкаянную маяту-каторгу от увиденного, ощущенного, осмысленного и пережитого. Милосерд Аллах — их Бог! Он неспешно разверзнет очи праведному совестливому человеку. Он на закате пути, как притомившемуся путнику, подаст ему глоток живительной влаги — вышнего откровения и личного откровения души, и озарит осознанием истины. Но в конце. В конце пути. На старости лет, чтобы не мучился и не терзался человек грешный до того часа своего — последнего. А пусть себе во здравии пока что пребывает и в заблуждении, что все, им совершенное, есть правильное и верное: так ему легче брести, в слепом неведении сотворенного, злого. Пусть плечи не гнутся к земле под грузом ошибок. И глаза пускай во здравии блестят — еще не вечер, еще светла дорога! Пусть идет по ней человек. Пусть род свой длит. Пусть дети его продолжатся в отце своем. Но когда уже пришел и дошел уморенный, и на пороге предела оказался, и чада его у смертного одра сгрудились, — уготовит ему Творец шанс откровения и покаяния истинного. И осветится божественное чистосердечие — так ли я жил, так ли завет исполнил и свое предназначение на земле. Пронзит постижение во всем, праведном, и в таком уразумеется, если причастен к событию той декабрьской ночи, что они… Что они не убили Хафизуллу Амина — они бросили зерно в землю. И то дало ростки и проросло. Вызрело гроздьями гнева, затребовав для созревания обильного полива. Кровью. Нашего народа. Народа Афганистана. Урожай бесконечен, безбрежен. Плодовитость страшная. Нескончаема и по сей день. Обилие страданий, боли, трагедий, изувечий. И жатва смертей. Нива бесславия…