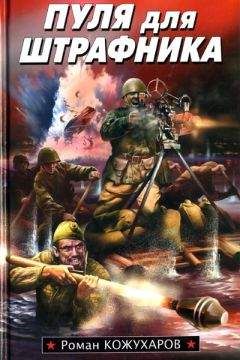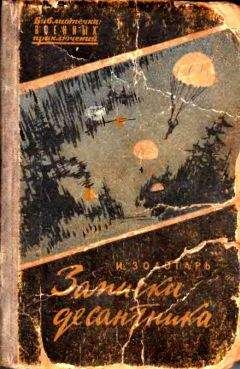Евгений Воробьев - Капля крови
Ничего Тимоше не говоря, Пестряков шагнул к выбитому окну, нескладно оберегая левое плечо, перевалился через подоконник, ступил на тротуар, засыпанный битым стеклом, и перебежал через улицу с явным намерением добраться до танка и предупредить о пушке в засаде.
«А что танкистов предупреждать насчет пушки, — рассудил Тимоша, — когда можно и самому распорядиться?»
Тимоша проволок трофейный пулемет по комнате к окну, смотрящему на юг, и открыл огонь, благо пулемет мог вести теперь фланкирующий огонь: орудийный щит стоял к Тимоше боком и оборонить прислугу не мог.
Фашисты бросили пушку и скрылись в западном направлении.
«Одна вывеска от того расчета осталась», — со злорадством подвел итог Тимоша и перетащил пулемет обратно к окну, глядящему на восток.
Тем временем Пестряков попал под отсечный огонь немецких минометов. Он стоял, прижимаясь к стене дома, выжидая, когда огонь стихнет и можно будет сделать перебежку. Он с явным опозданием услышал шелест мины на излете и не очень расторопно упал плашмя на тротуар у дома, на дальней от Тимоши восточной стороне улицы. Мина ударила в стену дома где-то над головой Пестрякова. Он упал у самого цоколя, раскинув руки, сильно вылезшие из кургузых рукавов шинели, вытянув ноги в порыжевших сапогах со сбитыми набойками и худыми подметками.
Один из осколков угодил во флюгер на коньке черепичной крыши. Петушок, первый и последний раз в своей неспокойной, ветреной жизни, взмахнул жестяными крыльями, как бы пытаясь взлететь в дымное небо, и его швырнуло наземь, к ногам Пестрякова.
Стена дома, исклеванная осколками, стала рябой. Пестрели свежие выбоины, ямки, выкрошенные в кирпичах, щербинки рыже-морковного цвета — все они отчетливо выделялись на фасаде кирпичного дома, потемневшего от времени.
Тимоша увидел, как Пестряков, превозмогая слабость, встал, весь с головы до ног обсыпанный кирпичной пылью.
Каска валялась на тротуаре пустым горшком. Волосы Пестрякова тоже запорошило красно-оранжевой пудрой.
Он все покачивал головой, будто безмолвно поддакивал Тимоше или о чем-то горько сокрушался.
Пестряков с трудом держался на ногах и тяжело дышал.
Видимо, он потерял ориентировку, потому что странно шагнул, как бы пытаясь пройти сквозь стену.
Тимоша мгновенно вымахнул из окна, словно его оттуда выдуло ветром, и бросился к пошатывающемуся Пестрякову.
Едва Тимоша успел ступить со своего тротуара на мостовую, как услышал посвист новой мины на излете. Тимоша, как всякий опытный пехотинец, хорошо знал этот посвист, переходящий в зловещее шуршание, — мина вот-вот разорвется, из последних сил она рассекает воздух.
— Ложись! — заорал Тимоша.
Но Пестряков стоял, приклонив голову к выщербленным кирпичам, упершись в стену больным плечом.
— Ложись! — снова заорал Тимоша истошным голосом.
Не слышит! Пестряков ничего не слышит!
Тимоша в несколько прыжков пересек мостовую, бросился к Пестрякову, схватил его за правое, безвольно опущенное плечо, дернул вниз. Он хотел свалить Пестрякова с ног, прикрыть его своим телом.
Желто-фиолетовое пламя разрыва вспыхнуло где-то вблизи.
Тимоша действительно повалил Пестрякова, но сделал это с какой-то странной, неестественной легкостью.
Пестряков упал, но упал не потому, что его увлек вниз Тимоша, а потому, что не упасть он не мог — он был мертв…
45
Тимоша склонился над товарищем. Пестряков лежал непоправимо тихо, бездыханный… Именно потому, что Пестряков всегда после бомбежки, после броска долго не мог отдышаться, так страшно было видеть неподвижную грудь.
«Вылечился наконец наш Пестряков от одышки…»
Его короткую шинель обсыпало той же красной пылью. Эта пыль, пропахшая ядовитой пороховой гарью, продолжала оседать на еще потном лице Пестрякова, на побуревших руках, причудливо перекрасила его пушистые брови и усы. Трофейный автомат валялся тут же, на тротуаре, в оранжевом прахе.
Почему же Пестряков, такой бывалый солдат, не лег на землю, заслышав свист второй мины, не внял окрику Тимоши? Ну, почему, почему?!
Теперь-то Тимоша понял почему.
Да потому, что Пестрякова оглушило первой миной, он не слышал предупреждения.
Тимоша прикрыл лицо Пестрякова трофейной каской, на которую продолжала оседать кирпичная пудра. Подобрал его трофейный автомат. Медленно поднялся с колен.
И острое, мучительное одиночество пронзило Тимошкино ожесточенное сердце, обожгло глаза сухой болью.
А Михал Михалыч?
С той поры как Тимоша забрался в угловой дом и занял позицию у окна, он совсем позабыл о Михал Михалыче, лежащем в темном подвале.
А ведь теперь, после гибели Пестрякова, он, Тимоша, — единственная живая душа, которая вообще знает о существовании Михал Михалыча! Не приди сейчас Тимоша в подвал, Михал Михалыч там и пропадет. Отобьют наши городок, заторопятся на запад — и неизвестно, ступит ли в эту каменную пещеру нога человека.
Только подумать! Михал Михалыч мытарится в подвале и не знает, что делается наверху, за ящиком из-под пива, которым загорожен от него весь белый свет. Его не пристрелят! Ему не угрожает плен! Его отправят в госпиталь! Не нужен ему и последний патрон, с которым он все время боялся расстаться.
Как знать, может, военврачи разных рангов еще поставят его не на костыли — на ноги?!
«Обратно на жизнь выкрутил баранку Михал Михалыч. Теперь его маршрут на поправку…»
Тимоша направился было к подвалу, но в этот момент к угловому дому, в котором воевали Пестряков и Тимоша, подошел танк, разгоряченный боем.
Люк закрыт, а вся броня его в той же кирпичной пыли, сквозь нее едва проступает копоть.
На танк сносило дым от затеянного Тимошей пожара — загорелся уже и чердак дома. По-видимому, танкисты потому и сделали здесь остановку, что им была весьма кстати дымовая завеса.
Тимоша, как заправский десантник — как это наверняка сделал бы Пестряков, будь он жив, — трижды стукнул прикладом о броню.
Крышка люка приподнялась, из нее высунулась голова в танковом шлеме, показались плечи.
Тимоша увидел капитанские погоны и вяло, без обычной лихости, козырнул. Лицо капитана было закопченное, чумазое, ничуть не светлее кожаного шлема.
— Товарищ капитан! Танкист ваш тут лежит. По соседству. Спрятали в подвале. Тяжело раненный.
— С якой машины?
— Та машина давно остыла. А еще раньше сгорела…
— Номер танка не бачил?
— Черемных ему фамилия. Механик-водитель. Михал Михалыч.
Голова чумазого танкиста скрылась в люке.
— По фамилии экипаж не помнит. — Капитан высунулся вновь. — Но все равно проведать нужно.
Чумазый танкист вылез на броню, спрыгнул на мостовую, и Тимоша, крайне удивленный, увидел, что он вовсе не в кожанке и не в комбинезоне, а в обычной шинели. И что этот пехотный капитан в танке позабыл?
— Веди швидче.
Капитан шел налегке — только планшет и пистолет хлопали его по бокам. Он шагал с явным удовольствием, с каким всегда шагают люди, только что вылезшие из танка, и лакомился воздухом — пусть он даже густой от неосевшей кирпичной пыли и минного пороха…
Тимоша с двумя автоматами и в длиннополой шинели едва поспевал за капитаном.
— Это ты, хлопец, спас нашего танкиста?
Тимошу так и подмывало желание нарисовать сейчас в ярких красках картину спасения Черемных, похвалиться, как он огнем прикрыл эвакуацию. Но Тимоша запнулся и ответил без всякой бойкости:
— Тут папаша один отличился с лейтенантом. А моя роль двоюродная. Только — группа обеспечения…
В ушах у него снова зазвучали последние слова Пестрякова: «Бери на себя пулемет, Тимофей!»
«Все время Тимошкой звал, а на прощание почему-то выразился так уважительно. Полным именем. Прямо загадку мне загадал…»
Тимоша подошел к забору, выложенному из неотесанного камня, проскрипел калиткой, завел чумазого капитана в хорошо знакомый двор, попросил обождать. Он снял с себя автоматы и неторопливо полез в подвал. Тимоша не спешил приблизиться к Черемных и необычно долго разжигал плошку. В движениях не было всегдашней расторопности. Тимоша морщил лоб — так он хмурил отсутствующие брови — и переминался с ноги на ногу.
Черемных сразу почувствовал что-то неладное. Вернулся Тимоша в одиночестве. Без оружия. А главное — будто воды в рот набрал, что на него совсем не похоже. Острое предчувствие несчастья сжало сердце Черемных.
— Что за беда?
— Не уберег я Пестрякова…
— А-а-а-ах!!! — Черемных застонал так, словно Тимоша только что с разгона плюхнулся ему на ноги. Черемных еще никогда не стонал так от телесной боли. — Как же это он?
— Скончался в бою… Между прочим, рассчитался с вашим обидчиком. Перед кончиной. Ну с тем фаустником, который танк поджег.
Черемных поморщился, как от новой боли. Ну зачем, зачем Тимоша треплется в такую страшную минуту?