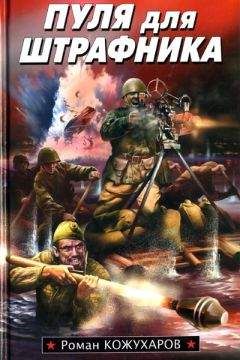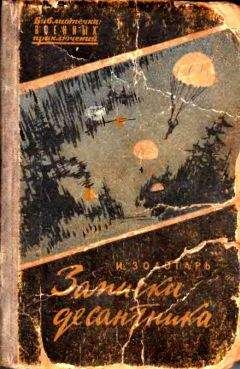Евгений Воробьев - Капля крови
Возле углового дома некогда стоял телеграфный столб. Внизу он сгорел, а останки его с изоляторами повисли на проводах. Провода тянули каждый в свою сторону, и очень странно, почти фантастически выглядело это обугленное бревно, распятое в воздухе…
«Тимошкина судьба — вроде этого телеграфного столба, — неожиданно подумалось Пестрякову. — Такой же парнишка неприкаянный. Он мне, как залез на НП, повинился. Женку бросил. От сынка отказался. Сам себя за это клянет. А доведется ли дожить, исправить ошибку — еще неизвестно…»
Тимоша первый услышал тяжелую поступь нашего танка.
Пестряков, как ни напрягал слух, так и не мог ничего услышать, пока танк не подошел ближе.
Танк стоял перед мостом, затем развернулся и ушел искать брод через канал — опасался мин.
Еще несколько наших танков показалось справа.
Танки обтекали окраину городка с юга.
На аллее, ведущей к мосту, появилась группа немецких солдат. Они пятились, оттаскивая свой тонконогий пулемет.
— И русский говорит «гут», когда немцы бегут, — подал голос Тимоша, изнуренный долгим молчанием.
Один из солдат, дюжий детина в очках и почему-то не в каске, а в пилотке, держал под мышкой нечто похожее на самоварную трубу, но только диаметром покрупнее, а длиной побольше метра.
Фаустник повернулся в профиль, затем снова попятился и посмотрел назад. Видимо, он намеревался спрятаться за углом дома.
Пестряков, потрясенный встречей, забыл о всякой осторожности. Уже не только немецкая каска его и немецкий автомат торчали над подоконником. Пестряков по грудь высунулся в своей шинели с непомерно широким, измятым воротником, являя собой странную помесь обличья солдат, воюющих между собой.
Да ведь этот самый фаустник поджег танк Михал Михалыча! Тогда сумеречило, но в зареве боя Пестряков отлично приметил фашиста в очках.
И вот спустя семь дней, таких дней, что каждого хватило бы на месяц, судьба свела Пестрякова с его обидчиком.
Так вот где мы с тобой снова встретились, очкастая сосиска! Ну конечно же, это он — угловатые плечи, сутулится, роговые очки и пилотка.
Чумовой, однако, длинноногий черт! Это ведь не каждый решится-догадается — схватить гранату на взводе и отшвырнуть ее в сторону, за каменный забор!
Очкастый фаустник зарос рыжим волосом, и огненные космы выбивались из-под пилотки, напяленной на уши.
«Что ты рыжий — не заметил тогда. А с трубой дьявольской пришло тебе время расстаться. И с жизнью тоже».
Руки Пестрякова задрожали от жажды нетерпеливой и лютой мести. Вот уж ни к чему эта дрожь!
Грязное стекло и клочья дыма от Тимошкиного костра — их нет-нет и проволакивало ветром мимо окна — ухудшали видимость.
Пестряков приказал Тимоше, дыша при этом так, словно только что перелез через высокий забор:
— Сейчас расквитаюсь. С тем рыжим жердяем… А ты бери на себя пулемет, Тимофей!
Пестряков взглянул искоса — Тимоша положил свой ППШ на подоконник кожухом и придерживал приклад снизу левой рукой, плотно прижимая его к плечу.
Тимоша дал короткую очередь. Пули со звоном прошили оконное стекло.
Хорошо бы ему, Пестрякову, для большей меткости подложить ладонь под рожок трофейного автомата. Но левая рука побаливала, и дрожь от нее передавалась всему телу.
Он никак не мог унять дрожь в руке и сдержать дыхание, перед тем как нажать на спусковой крючок.
Пестряков так боялся сейчас промахнуться, как, может быть, еще не боялся за всю войну, хотя целиться-жмуриться ему на фронтовом веку пришлось столько, что недолго было и окриветь на один глаз…
Пестряков совладал и с рукой своей, и с одышкой.
Долговязый фаустник хотел спрятаться за углом дома. Пятясь назад по тротуару, он прокричал своим товарищам, отставшим от него, что-то гортанное и злое, чего Пестряков не понял, затем помахал кому-то длинной ручищей.
Но это было последнее, что он успел сделать в жизни.
Фаустник выронил свою трубу. Тимоша услышал, как она, дребезжа, покатилась по тротуару, стукнулась о тот самый угол дома, за которым фаустник пытался спрятаться от пуль.
«Один мулек от фрица остался, — отметил про себя Тимоша. — Да еще очки на носу застряли».
А Пестряков обратил внимание на то, что у фаустника, упавшего навзничь, на рукаве мундира нет даже лычек ефрейтора или обер-ефрейтора, а на воротнике никаких знаков различия.
«Неужто рядовой? — удивился Пестряков, и в нем шевельнулось даже нечто похожее на внезапное сочувствие к фаустнику. — Загадка природы! А какой трюк тогда с моей гранатой вымудрил! По всему видать, солдат стоящий. Может, этого жердяя чинами обошли?..»
И что еще вызвало у Пестрякова подобие сочувствия к фаустнику — он тоже был обут в изношенные донельзя сапоги. Теперь, когда фаустник лежал, Пестряков увидел дырявые подметки и сбитые набойки на его старых, порыжевших сапожищах.
44
Тимоша бил по пулеметному расчету. Пестряков увидел, как он авторитетно управился с тремя фашистами.
«Что-то Тимошка патронов не экономит, — забеспокоился Пестряков. — Во-он какую очередь сочинил! Пока свои не подоспеют, ему диету соблюдать надо. Иначе боевого питания никак не хватит…»
Между тем Тимоша решил, что таиться дальше от фрицев не к чему.
Он громыхнул прикладом по раме, со звоном посыпались стекла, проклеенные крест-накрест бумажными полосками. Настежь распахнулось окно, но не свежим воздухом, а еще более злым дымом понесло с улицы.
— Прикрой меня, дядя Петро! — прокричал Тимоша, да так громко, что туговатый на ухо Пестряков встрепенулся.
Тимоша прокричал «дядя Петро», уже перепрыгивая через подоконник, подобрав полы шинели.
Он стремглав бросился к беспризорному немецкому пулемету. Тот остался стоять на своих тонких ногах среди трех бездыханных тел в серо-зеленых шинелях.
Тимоша схватил пулемет, схватил ящик с лентами и, так же пригнувшись, понесся обратно к дому.
Скоро худощавое тело пулемета уже хищно подрагивало, вбирая в себя ленту, а за пулеметом, глядящим из окна дома, лежал Тимоша. Он взял на прицел мост, круто выгнувший каменную спину в конце аллеи, мост, по которому пятились немцы. Несколько солдат упало, донеслись крики, кто-то метнулся в сторону.
Пулемет за спиной вызывал замешательство — русские обошли с тыла, окружили?!
Пестряков в полной мере оценил тактический маневр Тимоши. Конечно, рискованно было расстрелять весь диск автомата в надежде на трофейный пулемет, но риск был умный. Пестряков посматривал на Тимошу с уважительной теплотой, как никогда не смотрел прежде.
«Хорошо, что я не обидел человека самой последней жалостью. Не пожелал, чтобы его сейчас легонько подранило. А из штрафников Тимошке самое время увольняться…»
Поджог во дворе Тимоша совершил как нельзя более кстати. Дрова, сложенные в поленницу, добросовестно горели, да и как им было не разгореться при такой растопке! От костра уже занялись конюшня и каретный сарай, но дом под черепичной крышей пока что противился огню. На дом этот, в котором засели Пестряков с Тимошей, сносило густой дым; немцам за дымом не видны были вспышки выстрелов, а отступающие обходили горящий дом стороной.
Танк наш медленно приближался.
Пестряков крайне встревожился, когда разглядел, что люк открыт, а на броне кто-то сидит. Да не в куртке танковой, не в комбинезоне, а в шинели. Ну и заводной десантник! Дорогу, что ли, высматривает?
Форсировав канал, танк не повернул ни вправо, ни влево, а двинулся по аллее прямо к угловому дому, объятому дымом.
«По чужим следам идет. Осторожничает, — отметил Пестряков, очень довольный неизвестным ему танковым экипажем. — На песке все написано».
И в самом деле, гравий хранил следы немецких танков и цуг-машин, прошедших здесь, по-видимому, ночью.
И тут Пестряков подумал вдруг, что очкастый фаустник очень хитро выбрал место для засады. Неужели тот рыжий черт предусмотрел, что наши танки, опасаясь мин, пойдут для безопасности по следам немецких? Какой же он в таком случае был дошлый и опасный вояка, этот жердяй в разбитых сапогах, который не дослужился до ефрейтора, и как справедливо, что он, Пестряков, пустил его в расход, отомстил за Михал Михалыча и других товарищей по десанту и по экипажу.
Пулеметчики уничтожены, и с фаустником тоже покончено, но на другом конце аллеи, метрах в трехстах западнее желтой бензоколонки, не замеченная танком, пряталась в засаде пушка.
Пестряков первым заметил пушку и указал на нее Тимоше обкуренным пальцем. Хорошо бы как-нибудь предупредить танк об опасности!
Пестряков снова почувствовал себя в ту минуту не просто пехотинцем, а десантником, словно он лишь недавно спрыгнул с брони вот этого танка, чтобы воевать в непосредственной близости от него, охранять машину.
Ничего Тимоше не говоря, Пестряков шагнул к выбитому окну, нескладно оберегая левое плечо, перевалился через подоконник, ступил на тротуар, засыпанный битым стеклом, и перебежал через улицу с явным намерением добраться до танка и предупредить о пушке в засаде.