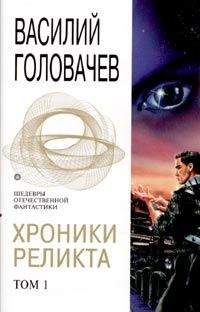Денис Ли - Пеший Камикадзе
Небо смердело жженой резиной, затягивая рассвет черно-грязным туманом. Облака, и без того наполненные сажей летали по небу не зная где им разразиться дождем:
«Вероятно, такой день и должен так выглядеть» — болезненно думал Егор.
На фоне серой, грязно-выбеленной стены стоял «трус», тот самый, которого в последнем бою Егор отыскал, вкотившись за очередную калитку частного дома, по улице Хмельницкого. Одного из тех, что сидел за воротами, за кучей промерзшего коровьего дерьма и сладко курил. На Егора накатила очередная волна ненависти. Он ничего не хотел объяснять или произносить, ни высокой речи, ни громкого слова. О чем еще можно было говорить, когда и без того, ежедневно, он рассказывал о истинно простых человеческих вещах. О вещах, касающихся проявления мужества и отваги, дружбы и взаимовыручки, разумной инициативы и беспрекословного подчинения, подкрепляя свои слова словами великого полководца Суворова:
«Война — искусство простое, и все дело заключается в выполнении».
Так или иначе, не прибегая к громким словам, не давая трусу последнего — оправдательного и ненужного, Егор хладнокровно, неуклюже, словно был пьян, нацелил на него автомат Калашникова. Неясно увидел в прицеле грудь солдатского бушлата.
Грозный автомат, был штатный, в исправном состоянии, и готовый к бою. А вот боеприпас был немного технически доработан. Из автоматного патрона 7Н6, калибра 5,45 миллиметров была извлечена стальная пуля, и удалено процентов восемьдесят порохового заряда. Взамен пули, был сделан не очень аккуратный ее муляж из свежего картофельного клубня, который почернев на воздухе медью, практически ничем не отличался от своего стального собрата-оригинала.
Демонстративно, перед «расстрельным» поместив патрон в патронник, Егор нацелился в его грудь. Он мельком видел его безумные, наполненные страхом глаза и искривленное дрожью лицо, поблескивающее, стеклянными слезинками на щеках. Но Егору не было его жаль, ни секунды. Здесь, на войне, они были в равных условиях, и ждать когда тот победит свои страхи, у Егора времени не было:
— Моя жизнь, — произнес Егор, — слишком близко идущая со смертью, нисколько не зависит от тебя. Ты никогда не вытащишь меня из боя, безногого и умирающего. А потому мой риск по спасению твоей никчемной, трусливой жизни… по-человечески, был не оправдан. А я… рисковал ради тебя!
— Мне было страшно! — взмолился еле слышно трус.
— Страшно… — передразнил Егор солдата. — Меня надо бояться! — крикнул Егор снова. — Я страшнее смерти! Я и есть — смерть!
С этими словами Егор нажал на спусковой крючок.
Раздавшийся одиночный выстрел повис эхом в небе, застряв в костлявых деревьях, что испуганно заволновались, и только их цепкие корни не пустили их бежать прочь. Всколыхнувшись, они не спугнули птиц… Птиц, здесь — давно уже не было.
Все произошло очень быстро. Егор удивительным образом успокоился и закурил сигарету. Ненависть ушла. Оставалась надежда на то, что хотя бы таким образом ему удалось дать прочувствовать солдату свою ненависть к его страху и свою боль, от его подлости и предательства, что горела в нем прежде негаснущим, мемориальным огнем:
«Трус умирает при каждой опасности, грозящей ему, — вспомнились Егору чьи-то слова, — храброго же смерть настигает только раз… И весь вопрос в том, — каким он будет… этот раз…
Ковыряясь в мерзлой январской глине тупой, пехотной лопаткой, медленно углубляя метровую могильную яму, «расстрелянный» делал редкие остановки передохнуть, и, встречаясь с задумчивым взглядом Егора, чьи глаза от задумчивости и ужаса мыслей, казалось, были безумны, тут же опускал их на дно своей могилы, продолжая рубить штыком мерзлую твердь земли.
В грязном засаленном бушлате, он напоминал немецкого пленного, которого прогнали по Красной Площади в Москве, еще в мае 45 года. Но это был не немец. Это был солдат современной российской армии, той самой русской армии, что победоносно одержала победу над нацизмом. Теперь же, погрязшей в «глиняной» войне с ваххабитами. Этой великой стране, сейчас было не до солдата, этот забытый солдатик был ей до одного места… до одной звезды. Перед лицом смерти, этому солдату, сейчас не важно какого цвета у него портянки… Но, по какой-то непонятной, и бездушной причине… Это не интересно и его стране? И только Егору, было крайне важно, чтобы он вернулся домой… Вернулся живым!
В саперном подразделении Егора около восьмидесяти процентов военнослужащих были из неполных семей; большинство, имели только мать, помимо старших или младших братьев или сестер. Около семидесяти процентов — являлись старшими детьми в семьях, а это значило, что в отсутствии отца, они были в какой-то степени кормильцами. Семьдесят с лишним процентов — жили в деревнях, станицах и маленьких, периферийных городках.
«Здесь воюют за тех, кого отмазали в больших, областных мегаполисах… — думал Егор, глядя на копающегося солдатика. — Безошибочно можно сказать одно… и это будет, касается каждого, и каждой российской семьи: когда враг придет уничтожать нас и будет резать своим «кривым» исламистским ножом наши семьи… на защиту нам встанут не наши собственные дети и сыновья… а чьи-то сыночки, с глухих, забитых деревень! — Могила копалась медленно. Но, по правде говоря, никто никого не торопил. Главным предметом копания, было, конечно же, время. Время подумать о случившемся, осознать и решить для себя — «кто ты». Егор был задумчив. Перед глазами, вновь проявилось тело Федорова, лежащее под телегой. Во время боя, не оказалось времени присматриваться к нему, но память, ухватив глазами все до мельчайшей детальки — все сохранила, предательски выдавая теперь этот «груз» насильно. С очень высокой четкостью… Раздробленные костяшки пальцев правой руки, частично слипшиеся, с взъерошенными кровавыми лоскутами кожи — первое, что увидел Егор, оказавшись за колесом телеги, — рука торчала наружу. Под пальцами, что соприкасались с асфальтом, как островки — маленькие лужицы крови. Драный рукав… Две ноги, разъехавшиесь «по-чарличаплински», лежали неестественно, не живо; левый сапог сполз, выглядывая концом раскрутившейся лохматой грязно-серой портянкой… Всклокоченная грудь разгрузочного жилета и грудь бушлата, выпирала торчащими, свежерваными нитями, выкрашеными кровью, будто грудь бравого снегиря… Торчащий за воротом бушлата подбородок, был чернен, словно обгоревший… Верхняя губа, загнувшись внутрь, залипла на серых, покрытых гарью передних зубах, оскалив их, в последней попытке крикнуть… Все лицо — щеки, переносица, лоб были в черных оспинах, торчащих из кожи маленькими гравийными «окалинами» и проистекающие кровавыми ручейками по лицу, покрытому густой рыжей пылью. Залитая кровью глазница правого глаза, походила на маленькое, холодное озерцо, с расходившимися кругами всплесков. Левый глаз, был приоткрыт — мутный, пыльный, с торчащим в глазном яблоке шипообразным осколком камня. По щеке стекала прозрачная слизь, похожая на слезу… Правое ухо, забитое грязью, с надорваной мочкой, торчало от завернувшегося за него бортика зимней шапочкой, что неряшливо задралась, оголив лоб… — Господи! — мысленно взмолился Егор, — все-таки каким чудовищным и жутким может быть человеческое тело, подвергнутое и изуродованное таким безчеловечным человеческим изобретением, как оружие…»
Докапав могулу до двух метров, глубже было уже невозможно копать (несмотря на то, что грунт глубже, был намного мягче), яма, почему-то сузилась на столько, что стала иметь конусообразную форму. Но это было не принципиально. Написанная солдатом записка, на обрывке страницы солдатского блокнота, кривым почерком девятиклассника — «Здесь похоронена моя трусость», была помещена в гильзу отстрелянного патрона, чье дульце было обжато саперным обжимом, брошена в предательскую могилу и наспех, почти «бегом» засыпана землей… Не был первой горсти земли, не было цветов.
В образовавшийся могильный холмик была вбита фанерная табличка, на которой поверх надписи — «Осторожно, мины!», черным фломастером было написано:
«Предатель Родины»
* * *Предшествующие этому три дня, которые Егор провел в постели, резко изменили его уже привычное состояние. После «расстрела», он недурно поел, и в его движениях и поведении наметилась ясность и определенность. Егору вдруг нестерпимо захотелось манной каши, что любимая, часто готовила ему по утрам, готовила просто божественно, отчего Егор задумчиво произнес, вслух:
— Ща бы манной кашки!.. Ммм!..
Спутавшиеся мысли его, вроде как, не беспокоили и он начал разговаривать с солдатами, проявляя интерес, узнавая их и называя по имени или фамилии, вместо насторожившего их прежде обращения — «Один… Ко мне!..», к кому-либо. Смахнув со стола аккуратно разложенные по времени приема таблетки, Егор собрал их в горсть и высыпал в нечистый карман бушлата, видимо, с явными намерениями не пить. Но между тем, ища нужное лекарство, доставал по одной, вместе с табаком, обдувал, разглядывал, и клал обратно, если была не та. Не находя места, пока Кривицкий был в городе, на маршруте, Егор, то доставал, то убирал снаряжение. Перекладывал магазины в разгрузочном жилете, ласково обтирая их от пыли, извлекал зубастые патроны и снова снаряжал обратно. Было видно, что спокойное бездействие давалось Егору трудно, от чего он подолгу шагал по палатке, словно заключенный по темнице.