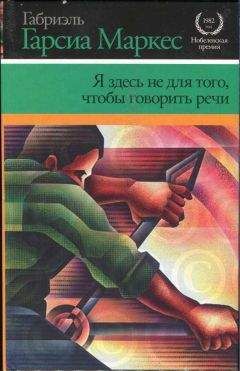Кристина Живульская - Я пережила Освенцим
Долго еще не унимался «Венский шницель», вызывная девушек по именам. Наконец Неля сошла с койки и затворила окно. Это его разозлило. Слышно было, как он вынул револьвер. Испуганные, мы сжались под одеялами, ожидая выстрела. Он действительно выстрелил, но… вверх. Его приятель, очевидно не столь еще пьяный, оттащил его от окна.
— Невозможно уснуть! — стонала Чеся.
Мы вышли из барака.
Теплая июльская ночь была прекрасна, несмотря на зловоние, ползущее отовсюду, несмотря на пылающие огнем печи. Стройная Чеся стояла в бледно-голубой шелковой рубашке, унаследованной после какой-то сожженной венгерки. Танцевальным шагом она подошла к маскировочной ограде вокруг крематория. Мы стояли зачарованные этим изящным видением и непроизвольно начали напевать вальс. Чеся грациозно раскланялась и объявила:
— Сейчас вы увидите современный танец. Танец освобожденной. Танец подыхающего хефтлинга. Называется этот танец: «Под пылающими печами».
Она стала кружиться как безумная. То утопала как золотая фея в отблесках пламени из труб, то выплывала в свете луны. Движения ее были умоляющие и грозные, стремительные и спокойные. Она выражала невысказанную тоску, возмущение, отчаяние, жажду мести и беспомощность… И вот уже образ смерти, конец… Стремительно кружась, она вдруг печально поникла и разразилась рыданиями.
— Я никогда не смогу танцевать. Если даже уцелею, всегда мой танец, мою радость будут заглушать стоны замученных. Даже в самом чудесном саду, всегда, повсюду, не оставит меня этот трупный запах…
А дни шли. Знойные, дымные, чадящие дни. Полные не проходящего нервного напряжения, постоянного ожидания конца… Черные от дыма дни, и ночи, красные от огня. Мимолетные проблески надежды, редкие мгновения радостного волнения. Посылка, письмо из дому, чья-то улыбка, чье-то слово ободрения. Сплетня, вызывающая жалость к другому, дрожь страха за себя. Одной девушке сбрили волосы за разговор с мужчиной. У другой при обыске нашли золото. Любимого какой-то женщины вдруг выслали транспортом. Наташа из эсэсовской кухни рассказывала:
— Они все твердят о каком-то новом оружии, которое спасет их в последнюю минуту, знают, что дело плохо.
Кого-то притянула проволока, потому что стоял слишком близко, — лежит в ревире. Какой-то эсэсовец влюбился в еврейку из «Канады». Приходит, чтобы только смотреть на нее, и объясняет ей, что он не виноват. Другой эсэсовец в том же бараке избил француженку. Одна девушка получила полную бутылку гусиного жира. В восьмом бараке кто-то нашел зашитый в пальто огромный бриллиант. Хочет сменить его на яблоко для больной сестры, которой нужны фрукты.
А «норму» продолжали выполнять. Двадцать тысяч в сутки. Моль носился на мотоцикле во все стороны, телефонируя, распределяя «сырье». Машины перевозили обугленные трупы. У крематориев стояли хвосты людей, ожидающих своей очереди. Карета Красного Креста развозила баллоны с газом. По мере того как людей сжигали, вводились усовершенствования. Раньше в раздевалках крематория заключенные просто раздевались и шли принимать мнимую ванну в газовые камеры. Тысячи пар ботинок, торопливо сваливаемых в машины, терялись, и трудно было потом комплектовать их. Велели поэтому людям связывать ботинки шнурками: «Чтобы они у вас не смешались в раздевалке», — говорили им. И люди старательно связывали ботинки. В «раздевалке» им давали номерки. Некоторые возвращались от двери камеры, прося другой номерок, первый, мол, потерялся в давке. И только после того, как впускали газ, люди, наконец, понимали в чем дело. Они бежали, обезумевшие, к выходу и вместо дверей натыкались на глухую стену. Тот, кто стоял дальше от газовых сеток, мучился дольше. Обычно удушение продолжалось от пяти до восьми минут. Тела, вынимаемые из камер, скрюченные и сплетенные между собой, свидетельствовали о невероятных муках: откусанные части тела, глаза, вылезшие из орбит, сломанные пальцы…
Бывали транспорты, в которых люди знали, что их ждет, либо просто предчувствовали. Эти перед входом в камеру сопротивлялись. Кто-то крикнул, кто-то вдруг догадался, и психоз передавался всем. В этих случаях, которые происходили все чаще, на обреченных выпускали специально выдрессированных волкодавов, и собаки загоняли в камеры людскую массу.
Однажды после открытия газовых камер мужчины из зондеркоманды услышали писк ребенка. Они были свидетелями самых ужасных сцен, какие можно только вообразить, но на этот раз и они оцепенели от ужаса.
Оказывается, ребенок остался живым потому, что сосал грудь матери и газ не получил доступа в легкие. Дежурный эсэсовец Моль, разъярившись, бросил живого ребенка в пылающую печь.
В транспорте из Венгрии прибыла пожилая еврейка. В лагере был ее сын, он работал в зондеркоманде. Вступив на территорию крематория, мать вдруг увидела сына, он укладывал дрова. Обрадованная, подбежала к нему. Сын, давно искавший свою мать среди удушенных газом, отступил в ужасе. Мать, ничего не понимая, спросила, что ждет их здесь. Он ответил, что они тут отдохнут.
— Что это за странный запах?
— От сжигаемого тряпья…
— А зачем нас сюда привели?
— Чтобы вымыться после дороги.
Сын подал матери полотенце и мыло и вошел с ней вместе внутрь. Вместе они исчезли в пасти печи.
Подобных трагических случаев, потрясающих душу встреч было множество. Не проходило дня, чтобы какая-нибудь подобная новость не доходила бы до нас от непосредственного свидетеля или посредством тайной записки.
Нас уже ничем нельзя было ни удивить, ни возмутить.
Здесь все было возможно… Все, кроме надежды на свободу. Благоприятные вести с фронта уже не могли больше поддерживать эту надежду. Нами владела теперь только одна мысль: из ада не выходят. Если кто-нибудь говорил: «А вот когда я буду дома…» — на него смотрели с состраданием…
Мужчин из зондеркоманды уведомили, что они будут отправлены в другой лагерь. Вот он конец. Они ведь знали, что он для них неминуем. В постоянном страхе ждали его. Но просто так они не дадутся… нет! Как прибудут в лагерь, поднимут восстание. Пусть только подвернется кто-нибудь из начальства. Чтобы игра стоила свеч. Условились обо всем. Послали записки в лагерь, что их отправляют ночью, что они будут сопротивляться, не дадут себя сжечь. На всякий случай и мы должны быть готовы. Известие это передавалось шепотом из барака в барак.
А потом им приказали идти в Освенцим, сменить белье и полосатые халаты. Высоко подняв головы, с песней, они прошли мимо наших окон. Окончилась неизвестность и мучительное ожидание. Теперь они знают, что смерть на пороге, и они должны бороться. Их «транспортом» не обмануть. Слишком хорошо им известны гитлеровские методы. По прибытии они вошли, пошучивая, за бельем. Двери захлопнулись. В барак, обычный по-виду барак, такой же, как все другие, пустили газ.
Гитлеровцы, как всегда, перехитрили. Даже все познавшую, все видавшую зондеркоманду…
Бережно с осторожностью развертываю посылку. Каждый клочок бумаги смотрю на свет. Нашла яйцо. Не могу понять, как случилось, что оно дошло целым. Показываю Басе:
— Видишь, как мои умеют упаковывать!
Бася осмотрела яйцо, повертела его, поцеловала меня и шепнула:
— Крутое яйцо! Ищи дальше, ты что, не помнишь знака?
Я взволнованно продолжаю поиски и нахожу еще два крутых яйца. Письмо дошло! Письмо получили! Значит, обо всем знают!..
— Кристя, ты понимаешь, что это значит? — говорит радостно Бася. — Это значит, что даже если мы все погибнем, мир узнает!
Мне сказали, что в Бжезинках работает команда столяров из Освенцима. Я решила: написать Анджею. Написала, что я здесь, что за несколько тяжелых месяцев у меня выдался первый светлый день — это потому, что наконец там все знают.
Когда я трудилась над этим письмом Анджею — почти уже нереальному, настолько далекой, настолько неправдоподобной казалась мне встреча с ним на берегу Солы, — вошла в шрайбштубу Таня, дала мне знак — выйти.
— Кто? — спросила я, проходя мимо нее.
— Какой-то мужчина, ждет за третьим бараком, иди туда, но будь осторожна, сегодня они как взбесившиеся собаки.
За бараком стоял Анджей. Он был смущен, видя мое изумление.
— Понимаешь, прошел год с той встречи, я должен был тебя увидеть. Я сюда пробрался вместе со столярами. Это, конечно, рискованно, потому что в лагере меня знают. Но мне необходимо сказать — тебе что-то очень важное, — он заколебался, — может быть, у меня не будет другого случая… я…
Он замолчал. Я поняла, что он замышляет: хочет бежать. Он мог и не объяснять мне.
— А это верное дело?
— Ничего не знаю. Но я уже не могу. Столько лет! У меня сейчас исключительный случай… попробую. Если удастся, постараюсь повидать твоих… если не…