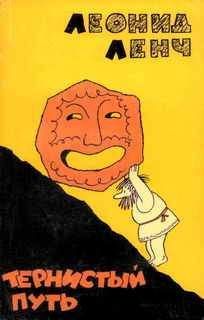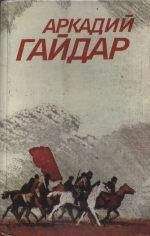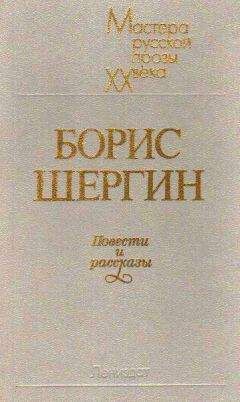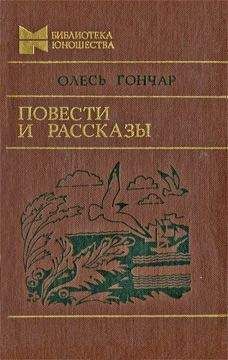Леонид Ленч - Из рода Караевых
На рассвете решил: останусь в Севастополе, никуда не поеду, покаюсь нашим во всем и — будь что будет!
Сразу стало легче на сердце, навалился сон.
После завтрака Василий, никому ничего не сказав, собрал вещевой мешок, потуже затянул поясом новую, недавно выданную английскую травянисто-зеленую шинель, надраил сапоги до невозможности и, разыскав на казарменном дворе запаренного, потного вахмистра Игнатюка, вытянулся перед ним в струнку.
— Разрешите обратиться, господин вахмистр!
— Ну, чего тебе? — Кабаньи глаза Игнатюка настороженно сузились, стали мутно-голубыми щелочками.
— На основании приказа верховного главнокомандующего генерала от кавалерии Врангеля изъявляю желание остаться в Севастополе, господин вахмистр! — отчеканил Василий заранее в уме приготовленную фразу.
— Оч-чень приятно! И не боишься, что «товарищи» к стенке поставят?!
— Умел воровать, умей и ответ держать, господин вахмистр.
— Ты что же это, сукин кот, службу у нас, выходит, воровством считаешь?!
— Поговорка такая, господин вахмистр. Из песни, как говорится, слова не выкинешь!
Игнатюк засопел, думая.
— Обожди здесь, пойду ротмистру доложу!
Ушел. И, вскоре вернувшись, сказал Василию, скорчив презрительную гримасу:
— Ротмистр Валерьянов сказали: «Баба с воза — кобыле легче». Ступай, красная стерва, на все четыре стороны, не поминай лихом.
— Паечек мне полагается, господин вахмистр!
— Может быть, тебе еще медаль шеколадный полагается?
— На основании приказа верховного главнокомандующего генерала от кавалерии Врангеля полагается суточный паек тем, кто не уходит на кораблях, господин вахмистр!
Игнатюк загнул свирепую многоэтажную брань — отвел душу, однако сдался:
— Иди к каптенармусу, скажи, я велел выдать. И катись отсюда к…
…С вещевым мешком за плечами, в котором лежала пара белья, запасные портянки, буханка хлеба и банка мясных консервов, в английской короткой шинели (малиновые дроздовские погоны он срезал и сунул в карман, как только вышел из казарменных ворот) Василий Трифонов стоял на улице подле пристани, слушал тревожную перекличку судов, толпившихся на рейде. Вот басовито, нетерпеливо взревел один корабль, заливистым тенором сейчас же ответил ему другой. И пошло! Словно собаки ночью на деревенской улице: залаяла одна шавка, сейчас же на другом краю истерически откликается другая. Громыхают тяжело нагруженные двуколки, гремят колесами артиллерийские орудия, тоскливо ржут брошенные, уже ненужные больше своим хозяевам многострадальные армейские кони. Идут, не соблюдая строя, военные, на извозчичьих пролетках, с чемоданами и узлами, едут штатские. У женщин — лица бледные, заплаканные, губы закушены. Медленно пробирается среди уличной сутолоки открытый длинный штабной автомобиль, рядом с шофером сидит генерал с каменным неприступным лицом. Эвакуация! И никому никакого дела нет до Василия Трифонова, бывшего нижегородского драгуна, бывшего красноармейца, бывшего конного дроздовца. А солдату нехорошо оставаться одному, солдат — артельный человек. Снова смутно стало на душе у Василия Трифонова.
Неподалеку от него кучками стояли юнкера-сергиевцы, артиллеристы, ждали, видно, когда их поведут на погрузку. От одной из кучек отделились двое и подошли ближе: один высокий, лицо открытое, приятное, с нежным, как у девушки, румянцем, другой — низенький, чернявый, совсем еще соплячок. Низенький достал портсигар, протянул его высокому, тот взял себе папиросу и — к Василию:
— Хотите покурить?
— Благодарствую, господин юнкер! Можно побаловаться!
Высокий юнкер дал Василию папиросу, низенький предупредительно чиркнул спичкой, поднес огонь, спросил:
— Вы какого полка?
— Конный дроздовский.
— А, это тот, заграничный?
— Так точно — заграничный.
— Вы на каком корабле уходите?
— Говорили, на «Херсонесе».
— Мы тоже на «Херсонесе», — чему-то обрадовался низенький.
— Да я-то сам не ухожу, — помолчав, сказал Василий. — Решил здесь остаться… на основании приказа верховного главнокомандующего генерала от кавалерии Врангеля. Будь что будет!
Чернявый юнкер нахмурился, а высокий улыбнулся и сказал:
— И правильно делаете! Вы солдат?
— Солдат!
— Это офицерам да вот нашему брату приходится родину оставлять, а вам — незачем.
— Да ведь я, господин юнкер, из этих… из красных пленных!
— Ну и что! Все равно — солдат.
Василий хотел поблагодарить высокого юнкера за совет, в котором так нуждалась его терзаемая сомнениями душа, но раздалась команда, и юнкера побежала строиться. И только они застыли в гипнотической неподвижности, как зычный командирский голос подал новую команду:
— Равнение на-пра-во! На ка-ра-ул!
И Василий Трифонов увидел, что к строю юнкеров приближается какой-то генерал, сопровождаемый двумя адъютантами.
Это был Врангель.
Главнокомандующий, обычно носивший казачью форму — черную черкеску и белый бешмет, на этот раз был в длинной шинели солдатского сукна с широкими генеральскими погонами. На голове — корниловская фуражка с красной тульей и черным околышем.
Он шел размашистым шагом, длинный, жердистый смертельно бледный, с запавшими воспаленными глазами — под ними растекалась темная синева крайнего нервного изнеможения.
Врангель остановился, выпрямился, стал еще длиннее.
— Здравствуйте, молодцы-сергиевцы!
Ответное приветствие юнкеров потонуло во внезапно ударившем в уши басовитом и наглом реве трехтрубного «Риона». Ему ответил шведский грузовоз «Мадик», и опять пошла перекличка корабельных гудков.
Болезненно морщась, Врангель вглядывался в напряженные лица молодых артиллеристов, ожидая, пока окончится эта назойливая какофония.
Гудки наконец смолкли.
С трудом сдерживая подступавшую к горлу истерику, Врангель начал говорить:
— Юнкера! Мы… уходим! Позади остается поруганная Россия… ряд дорогих могил… разбитые надежды. Впереди — неизвестность… Европа и Америка нас предали… Куда мы идем — я не знаю. У нас есть уголь, и мы уходим в море… — Он сделал глубокий, судорожный вздох. В строю кто-то громко всхлипнул. — Но милостив и справедлив господь! — рыдающе выкрикнул Врангель, снял корниловскую фуражку и широко, истово перекрестился. Потом снова надел фуражку, не забыв при этом автоматическим жестом гвардейского «жоржика» ребром ладони проверить, правильно ли она села на голову. — Рад, что вижу вас стойкими и бодрыми, — продолжал свою речь главнокомандующий. — Будьте готовы ко всяким испытаниям и лишениям… Знайте, что спасение России и нас самих — в наших руках. — Он по-петушиному парадно откинул назад голову и уже обычно высокопревосходительно, кавалергардно рявкнул: — Спасибо за порядок, за сильный дух!
Юнкера четко рубанули свое: «Рады стараться!» Врангель снова снял фуражку, низко поклонился не то строю сергиевцев, не то крымской земле, которую оставлял навсегда, и тем же быстрым размашистым шагом пошел к пристани. За ним, придерживая шашки, заспешили адъютанты.
Кто-то положил Василию руку на плечо, он оглянулся и увидел Петьку Сазонова. Дроздовская фуражка надета набекрень, толстые щеки лоснятся, глаза — мутные, пьяные, плутовские.
— Ты что же это такое удумал, Вася, друг сердечный, таракан запечный?! — затараторил Петька. — Мне ротмистр говорит, я ушам не верю!.. Наши уже погрузились, я отпросился на минуту, авось, думаю, встречу тебя… Васька, выкинь из головы, что придумал, идем на корабль!
Он взял Василия за рукав шинели, потянул за собой, Василий отвел его руку:
— Иди ты, Петька, знаешь куда!.. Остаюсь, вес!
— Так ведь красные тебя к стенке поставят! Недаром в частушке поется:
Я на бочке сижу,
бочка вертится.
Я у Врангеля служу,
Ленин сердится!
— Ну и пусть ставят к стенке, если заслужил. А может, еще и не поставят!
— По головке погладят?
— Видно будет. Тебя-то куда, дурака, несет?
— Ротмистр говорил: нам Антанта всего даст, снарядит заново, как следует, и тогда будет сделан агромадный десант!
— А Врангель только что юнкерам другое сказал: «Европа и Америка нас предали… Уходим в море… пока угля хватит».
— Много он знает, твой Врангель долговязый! Ротмистр говорил, будто теперь командовать будет Кутепов. А это знаешь какой ухарь, — у него борода и та железная!.. Идем, Васька, на корабль! Вместе — так до конца вместе. Что же ты дружка бросаешь одного?! — Шалые, пьяные Петькины глаза наполнились слезами.
— Жалко мне тебя, идиёта! Ротмистр говорил, что они «цветных» без разбору, всех — к ногтю! Раз ты дроздовец, малиновый погон, — становись в стенке! Разговор короткий. Если уж так у нас с тобой получилось, надо за одно что-нибудь держаться, а не болтаться от кромки до кромки, как дерьмо в проруби!.. Ты, я знаю, все о земле думаешь, а как оно там получится, с земелькой? Ротмистр говорил, что, когда наши… то есть белые эти… победят и Москву возьмут, — с землей все решится по-справедливому, на основании земельной леформы!