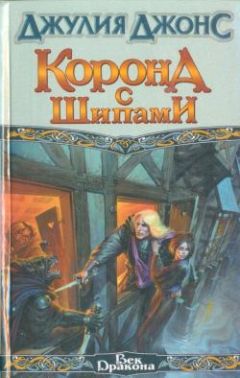Александр Гончаров - Наш корреспондент
— Слышите, кричат? — спросила она разведчицу.
Наташе и самой казалось, что со двора гестапо доносятся крики.
— Убивают людей, — бормотала, как в бреду, седая женщина. — Убивают, травят…
Крики смолкли. Визжа ржавыми петлями, раскрылись ворота. На улицу без сигнала, будто крадучись, выехала странная машина с тупо срезанным радиатором и длинным закрытым кузовом серого цвета. Она была похожа не то на вагон, не то на автобус и имела окна.
Разворачиваясь, машина медленно проехала совсем близко от Наташи. Шофер деловито крутил баранку и что-то оживленно рассказывал сидевшему рядом офицеру. Его свинцовые глаза равнодушно скользнули по Наташе. Длинный кузов машины тянулся мимо нее. Она могла бы заглянуть внутрь, но окна оказались фальшивыми, глухими. Ослабленные толстыми стенками, изнутри послышались затихающие крики, царапанье… Наташа почувствовала, что у нее зашевелились под платком волосы: за серой стенкой этой чудовищной машины в страшных мучениях умирали люди. Может быть, среди них был и Тимофей Константинович? Она сжала кулаки так, что ногти впились в ладони.
— Душегубы! — низким, гневным голосом говорила старуха. — Никого не щадят — ни старых, ни малых. Палачи… Изверги… Да неужели и не отомстится им за все?
— За все ответят, бабушка! — не выдержав, горячо прошептала Наташа. — За каждую каплю крови, за каждую слезинку…
— Я не бабушка, — с горечью сказала седая женщина, — мне только тридцать пять лет…
Следом за «душегубкой» из гестапо выехал грузовик с десятком полицейских, которые, подняв воротники кителей, поворачивались спиной к ветру. Лопаты, прислоненные к задней стенке кузова, бренчали и подпрыгивали, когда грузовик встряхивало на булыжнике. Ворота закрылись. Часовой, увидев женщин, угрожающе повел на них автоматом, закричал, чтобы проходили. Стиснув зубы, сдерживая закипающие слезы, Наташа пошла прочь от этого места.
Глава восьмая
12 февраля наши войска вошли в Краснодар. А через два дня работники редакции узнали об освобождении Ростова. Ростовчане сели писать письма. Серегин, у которого родственников в Ростове не было, а друзья находились на фронте, послал два письма соседям по квартире. Вскоре после этого редакция окончательно покинула горы и перебазировалась в равнинную станицу. Только теперь журналисты по-настоящему почувствовали, что ими пережит трудный и сложный период обороны в тяжелых горно-лесистых условиях.
У Серегина, как и у многих сотрудников редакции, худая шея болталась в просторном воротнике гимнастерки, щеки впали, но зато он мог без устали шагать хоть весь день и способен был спать в любом положении. Незаметно для самого себя он изменился и возмужал, как будто в горах было прожито не несколько месяцев, а несколько лет. Уже не искал он сенсаций и выдающихся фактов, научившись находить материалы для своих корреспонденций и очерков в будничном труде советских бойцов. К тому же с начала наступления выдающиеся факты перестали быть редкостью.
После выхода на равнину в редакционном коллективе произошли некоторые изменения. Отозвали во фронтовую газету Незамаева. Ушла в редакцию воздушной армии вольнонаемная Бэла Волик. Прощаясь с Серегиным, она сказала, печально улыбаясь:
— До свиданья, Миша. От души желаю вам встретить вашу неуловимую знакомую.
— Спасибо, — растерянно ответил Серегин, для которого уход Бэлы был полнейшей неожиданностью. Он так ничего и не понял, несмотря на прозрачные намеки Марьи Евсеевны, ворчавшей что-то о слепых и не желающих ничего видеть людях.
А Галина исчезла, и никаких известий о ее судьбе Серегин не имел. Напрасно он ждал, что девушка зайдет в редакцию. Однажды он встретил на фронтовой дороге подполковника Захарова. Увидев Серегина, подполковник остановил машину и спросил корреспондента, где он был и как обстоят дела. Серегин рассказал, в то же время соображая, как бы подмести разговор к Галине. Его смущало присутствие в машине еще одного, незнакомого подполковника.
— Что ж, товарищ подполковник, — сказал корреспондент Захарову, закончив свое краткое сообщение, — только через два месяца после войны? Раньше никак нельзя?
— Что такое? Не пойму, — удивился Захаров.
— А помните, вы обещали мне разрешить написать о разведчиках?
— А-а, — засмеялся Захаров, — помню, помню! Нет, раньше нельзя. Только через два месяца после войны.
Смеясь, он кивнул Серегину, толкнул локтем шофера, и машина умчалась, прежде чем корреспондент, довольный тем, что нашел удачный подход, успел задать нужный вопрос.
Как-то Тараненко спросил Серегина:
— Слушай, старик, ты за время обороны в каких боях участвовал?
— Я непосредственного участия в боях не принимал, — ответил Серегин. — А что такое?
— Ну как же, — возразил Тараненко, — ты ведь сам рассказывал, как вы с Незамаевым были на высоте триста седьмой.
— Были, да что это за участие! Взяли материал и ушли. Да зачем тебе это нужно?
— А затем, что редактор приказал мне заполнить на тебя наградной лист. Будут награждать за оборону, — может быть, и нас, грешных, не обойдут.
— Вот это здорово! — воскликнул Серегин.
— Подожди восторгаться, — благоразумно сказал Тараненко, — не каждое представление удовлетворяют. Ну, давай перечисляй свои боевые подвиги. Наградной отдел требует, чтобы были подвиги.
— А ведь это неправильно, — подумав, сказал Серегин.
— Что — неправильно?
— Вот такое отношение к журналистам. Выходит, что наша работа сама по себе не имеет никакого значения.
— Не пойму я, чего ты хочешь? — Тараненко удивленно поднял брови.
— Что ж непонятного, — волнуясь, сказал Серегин, — от хирурга не потребуют непосредственного участия в боевых действиях, его наградят за то, что он хорошо делает операции, спасает человеческие жизни. Пекаря наградят за хорошее качество хлеба, интенданта — за бесперебойное снабжение. Их труд необходим армии, ценится. А труд журналиста что же — бумагомарание?!
— Постой, постой! Ты остынь, а то от тебя прикурить можно.
— Не хочу остывать! Вот и нет ничего удивительного, что при таком отношении журналистов изображают в книгах и пьесах какими-то петрушками. Вспомни, ты сам этим возмущался.
— То — другое.
— Ничего не другое. Мое оружие — перо. Вот и оценивайте меня по тому, как я им владею и действую.
— Ну что ж, попросим, чтобы для журналистов ввели специальные знаки отличия. Скажем, «За боевитость» или «За действенность».
— Брось, Виктор, — не принял шутку Серегин, — ты прекрасно меня понимаешь.
— Ну, ладно, старик, — сказал Тараненко, — не будем спорить. Ты меня убедил… Так, говоришь, в каких операциях ты участвовал, кроме высоты 307?
2Под ударами наших войск гитлеровские части на Кубани продолжали откатываться на запад. В одном из отделов штаба, изучавшем настроение противника, корреспондентам показали письмо, найденное у немецкого солдата и адресованное некой Гильде Баумгартнер. Солдат жаловался: «…Я не спал почти трое суток. Могу сказать тебе, что у нас на фронте очень плохое настроение. Русские не дают никакой передышки. Мы отдали Кавказ, хотя он стоил нам бесконечно много жертв. Десятки тысяч немецких солдат здесь пожертвовали жизнью, и все без смысла. Русские вернулись и стали хозяевами этих чудесных мест, которые мы уже считали своими. Я говорил, когда был дома, что мы никогда не покорим русских. Со мной не соглашались, мне не верили, а ведь теперь это говорит каждый солдат…»
Битва за Кавказ подходила к концу. Однако редактор был прав, когда советовал редакционным стратегам трезво оценивать возможности противника. Враг еще не потерял способности сопротивляться. В начале марта немцы предприняли контрнаступление в районе Донбасс — Харьков. На тех фронтах, где в течение зимы наши войска вели наступление, установилось временное затишье. Костя-отшельник, которого обвиняли в недостаточной активности, оправдывался необходимостью подтянуть тылы, пополнить части и технику. Только на Кубани продолжались ожесточенные, упорные бои. В сообщениях Совинформбюро после лаконичной формулы «…на фронтах существенных изменений не произошло» ежедневно отмечались активные боевые действия на Кубани.
Однажды редактор возвратился из очередной поездки в политотдел армии необычайно оживленным и приказал Станицыну собрать работников редакции.
— Всех курящих, — загадочно сказал он. — Ну, а ты будешь допущен в виде исключения.
Кроме Станицына, в редакции курили все.
Когда немногочисленный наличный состав собрался, редактор достал из полевой сумки коробку папирос, раскрыл ее и торжественно сказал:
— Закуривайте!
Папиросы были в то время вообще редкостью. Военторг снабжал курильщиков так называемым «филичевым» табаком, мнения о котором резко расходились. Одни утверждали, что его нужно нюхать, другие, наоборот, считали, что им следует пересыпать постели в целях борьбы с блохами. Во всяком случае курили его с отвращением. Редактору не пришлось повторять своего приглашения.