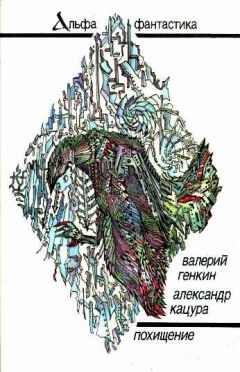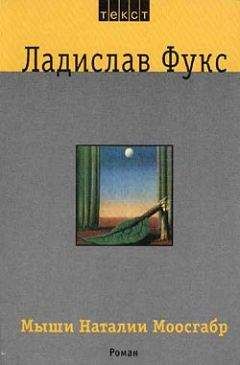Ладислав Мнячко - Смерть зовется Энгельхен
Митя, правда, знал другие песни, длинные, чарующие, горестные: о казаках, попавших в турецкую неволю, о соловьях, которые тревожат солдат и не дают им заснуть.
Соловьи, соловьи,
не тревожьте солдат,
пусть солдаты немного поспят.
Все мы посмеивались над Димитрием, ведь он не убил ни одного немца, но это было неправдой, он убивал, его песни убивали. Когда всем было плохо, так плохо, что хуже нельзя, его мягкий чистый голос отгонял нашу тоску, мы поднимали голову, даже малодушные набирались новых сил, все снова становились уверенными и сильными. Он запел, когда мы опускали в землю тело Николая, запел о соловьях, Митя, наш соловей.
Мы остановились на холме. Оглянулись. Внизу лежала Плоштина — двадцать домов, теснящихся на краю леса, двадцать деревянных хижин, кое-как построенных на бугристой почве. Сколько раз отсюда, с холма, я смотрел на Плоштину. Деревня всегда казалась мне лохматой. Лохматая Плоштина. Возле каждого дома небольшие, но сильно заросшие садики, обнесенные заборами, круглые крыши, крытые черной дранью, небольшие окошки; летом, наверное, на каждом окошке цветы. Ручей делит Плоштину на две части, у ручья частые заросли вербы. Ухабистая дорога сбегает под откос и вьется, вьется между большими валунами. Вот такая она, старая Плоштина, она от века такая, такие же в ней дома, такая же трудная жизнь, такие же люди.
Ну, прощай же, Плоштина, прощай, наша земля. Прощай, матушка Рашкова, прощай, старик Зиха, до свиданья, Андела, до свиданья и другие, лучшие, послевоенные времена. Мы стали вам родными, люди Плоштины. Целые месяцы вы кормили нас, давали нам приют — за что? За какие благодеяния? Кому представите счет после войны? Одни заботы — все ваше достояние, и все же вы сумели отдать нам все. А заботы останутся вам. Больше ничего.
Эй, люди Плоштины, хуторяне! Что сделали вам немцы? Они не беспокоили вас, не знали ничего о вашем существовании. Ваших сыновей не угоняли в Германию, ваших дочерей не бесчестили, вас не сажали в тюрьмы за не сданные в фонд «Великой Германии» продукты, не отнимали у вас скот, пашню, крышу над головой. Не была занесена над вами секира палача. Зачем вам понадобились партизаны? Почему вы не указали на дверь первым русским, что постучали к вам? Почему не испугались, что их найдут у вас немцы? Почему не донесли вы, что в вашей деревне скрываются бандиты?
Вот стоят они, молчат. Смотрят нам вслед. Тишина. Только ветер колышет высокие кроны. Но и молчание полно смысла, молчание — это ответ хуторян, неразговорчивых людей, такому ответу научила их жизнь. Кто захочет, кто сумеет понять это молчание — поймет много…
Вот что сказал нам этот безмолвный прощальный хор: «Здесь родились мы и здесь умрем. Наша это земля, никто лучше нас не знает, что такое земля… Мы не можем, не хотим жить без нее. Если победят немцы, они отнимут нашу землю. Русские же оставят нам ее. Нам говорили это и Николай, и Димитрий, и Гришка, мы верим этим людям. Николая похоронили в нашей земле. Идет война, а на войне умирают. И мы люди, и мы можем умереть на войне, если придется».
Более полугода жили партизаны в Плоштине. Сначала совсем немного партизан, всего только шесть человек русских, троих из них больше нет. Партизанам нужна была еда, лекарства, тепло, они и самогоном не брезговали. И никто ничего не знал. Не знала жандармерия, не знали немцы, не знали крестьяне из деревень, что расположены в горной долине, хотя они-то знали. Плоштина была спокойна, в Плоштине было тихо. Тишина была в Плоштине, и никто о Плоштине не говорил.
Каждый день хуторяне отправлялись в рискованные походы за мукой, сахаром, мясом, каждый день на волоске висела их жизнь. По воскресеньям женщины ходили в костел и молились о том, чтобы отвратить все зло, молились за все доброе. А добра-то на хуторе всегда было немного, зла — много, и оно было сильно. Но никто ничего не знал… Тихо было в Плоштине, и о ней никто не говорил.
В деревне немцы убили пять человек, пять молодых партизан. Какой-то Конечный, бедняк, конюх, шатался ночью по деревне и увидел, как в корчму проскользнуло несколько подозрительных теней. Задыхаясь, прибежал Конечный к старосте.
— Немедленно вызовите жандармов, в деревне бандиты!
Староста не хотел звонить жандармам.
— Ты это напрасно, — говорил он, — неизвестно еще, кто это был, а может быть, и немцы…
— Если не станешь звонить, я сообщу, что ты помогал партизанам.
Так это произошло. Какое дело было Конечному до того, кто ходит ночью во время войны по деревне? Что ему было до того, что в корчму вошли незнакомые люди? Он хотел выслужиться перед немцами? Но для чего? В то время еще Франк не ассигновал миллион протекторатских крон на борьбу с партизанами, не оценили еще тогда наши головы. Никто из «бандитов» и близко не подходил к дому конюха, он мог бы спокойно спать, никто бы не помешал ему. Ведь к нему не относился немецкий приказ, который прикреплен был на стене дома старосты: «Любая помощь вооруженным бандитам карается уничтожением всей семьи».
Почему же этот конюх не выколол себе глаза, не вырезал язык, не заткнул уши, прежде чем сообщить о партизанах?
Как кричала его жена, когда весь отряд явился в деревню для того, чтобы предатель получил достойное партизанское возмездие!
Староста и жандармский урядник Поспишил были свидетелями на партизанском суде. Староста был добровольным свидетелем, потому что был честным человеком, несмотря на свою должность. Урядник свидетельствовал не по доброй воле. И нам приходилось вешать. И мы прикрепляли на грудь повешенным надписи. Доносчик ползал перед нами на коленях, а жена его вопила:
— Пожалейте!.. Смилуйтесь!.. Попомните бога!
— Зачем вы донесли, Конечный? Зачем ты предал, скотина?
— Не знаю… Не знаю… Только не вешайте меня… Я хочу жить, на коленях прошу вас.
Мы потащили его к шелковице, что росла перед домом старосты. Туда велено было собраться всем крестьянам, только без женщин, не для них такое зрелище. Никто и полслова не сказал в защиту конюха. Крестьяне все оделись в черное и с важностью взирали на то, что свершалось у них перед глазами. Предатель уже стоял на скамье, забрызганной кровью одного из наших; Петер готов был выбить скамью у него из-под ног, а негодяй все еще молил о пощаде, как из толпы деревенских выступил один и направился прямо к шелковице.
— Дайте мне, я сам… — сказал он.
Напрасно объясняли мы ему, что так нельзя.
— Дайте мне… Я его брат…
Имеет право брат совершить такое страшное дело? Имеет! Имеет право. Он отвесил ему еще две оплеухи, а потом сказал нам:
— Я иду с вами, давайте ружье!
Вот он, рядом с нами, Конечный, брат предателя.
Какое дело было тому мерзавцу, что в деревне появились партизаны? Чего ему было надо?
Вот стоит внизу молчаливая толпа и смотрит на холм, и мы на холме смотрим вниз, на толпу. А ведь им-то было дело до партизан, партизаны жили в их домах, а за это полагалась смерть. Ведь каждый из них имел возможность донести без свидетелей, зная наверняка, что никто не откроет, донести непосредственно немцам. Ведь миллион обещали, голова закружится! Смерть целой семьи — или миллион крон? Правда, цена небольшая — кроны немногого стоили, но все же их обещали миллион, миллион обесцененных крон, богатство, за которое можно было бы купить половину Плоштины. Но Рашка зарезал корову, Андела заколола кабана. Потом Андела зарезала корову, а Рашка кабана, да еще посмеивались, — ничего себе поставки, говорили.
Тихо было в Плоштине, и о ней никто не говорил. В Плоштине было хорошо, так хорошо, что иногда нам становилось стыдно, отчего это нам так хорошо. Не было предательства в Плоштине, предательство приползло в нее.
И разве хоть кто-нибудь из нас в эти минуты может думать о чем-нибудь другом? Прощай, Плоштина, прощайте, все, прощайте, люди. Никто не поставит хуторянам памятник, никто не напишет о них героические поэмы, никто не оценит подвига безымянных.
Мы тронулись, спустились с холма. И больше не видели Плоштины. И снова стали лесными людьми — патрули с четырех сторон. До нас донесся крик.
Кто это бежит за нами? Иожина! Что случилось? Ничего.
— Подождите! Подождите!
Догнала, едва переводит дыхание.
— Я с вами пойду! — кричит она.
— Вернись, Иожина, нам женщины не нужны, — сурово говорит ей Петер.
— Смотри-ка, не выдержала без нас, — смеется словак Ондро.
— Заткнись, выродок, кто бы говорил, а ты бы молчал, — нападает на него Иожина. — Не все тут такие.
Да она и не спрашивает, берем мы ее или нет. Ну что с ней делать? Мы взяли ее, конечно, взяли. Партизан, который нес два ружья, несет только одно. Иожина умеет стрелять, она уже убила своих трех немцев, а то и больше.
Мы больше не видели Плоштины, она стала для нас дорогим, бесконечно дорогим воспоминанием.
Дорогая Плоштина… Дорогая? И сон и покой отняла она. Я весь дрожу от стыда при одном воспоминании о ней. Почему эти воспоминания теснят мне сердце? Душат меня? Почему?