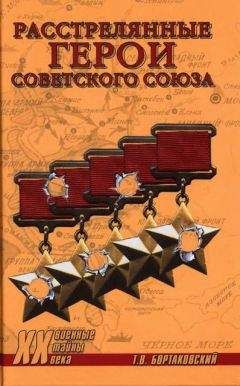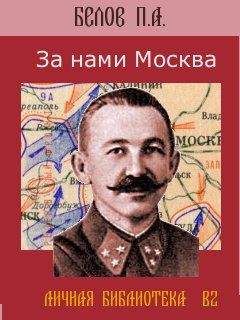Юрий Бондарев - Мгновения. Рассказы (сборник)
И тут же сказал о повести «Последние залпы».
– Могла принести вам огромную славу, но как-то мешал Казакевич своей «Звездой». Он был любимец критики – а вы вроде бы чужой. Написано у вас правдиво, сильно… и какая-то, что ли, обреченность. Критика к этому не привыкла. Вы из окопов только могли ее написать. – И спросил: – Вы офицер?
И потом пошутил, засмеявшись своим хриплым захлебывающимся смехом:
– Бондарев – талантливый человек, смесь Шекспира с поздним Буниным. Читали его «Темные аллеи»?
Разумеется, я понял смысл этой фразы, намек на раздражавшие его «постельные сцены» в «Тишине». Об этих сценах он как-то мне сказал, что «не дело русской литературе решать половую проблему», что Иван Бунин в последние годы писал эротические рассказы, далеко не лучшие свои вещи, и это было угасание таланта, болезнь старости.
– Болезнь? А как же быть с «Анной Карениной», с «Дьяволом», с «Крейцеровой сонатой»? С некоторыми рассказами Чехова, Леонида Андреева, Горького?
– Реализм не терпит примеси натурализма, который разрушает какую-то тайну жизни, натурализм всегда нарочит.
– Я с вами согласен, но…
– В «Анне Карениной» есть очень откровенные страницы, но натурализма нет нигде. Бёлль – интересный писатель, но прежде, чем писать «человек съел сосиску», он будет долго описывать, как он разжевывал ее гнилыми зубами. И уже читать не хочется. Хемингуэй – крупный мастер, но иногда так долго и подробно описывает, что его герои ели в ресторане, – пропадает аппетит. И всегда его внимание занимает лобковое место и… разговоры в постели. Не надо бы. И Бунину не надо.
– Нет, Александр Трифонович, бунинские «Темные аллеи» удивительны, почти каждый рассказ – шедевр.
– Неужто считаете так?
– Убежден.
– Заблуждение. Прочитав Чехова, вы не назовете Бунина гением. Крупный мастер. И только. Куприн меньше, но читабельней. Он ходит на грани банальности, но не банален. И читатель принимает его. До сих пор помню сцену из «Поединка» – поручик замечтался на смотре и смешал строй. Прочитаешь эту сцену – и становится не по себе. А у Бунина «Антоновские яблоки» – прекрасно написанный рассказ. Ничего лишнего. И в то же время есть все: запах осенних яблок, время, усадебная бедность… И что-то еще, что составляет тайну литературы. В простоте и объемности.
– Александр Трифонович, вы знаете, наверное, отзыв Бунина о «Василии Теркине»?
– Тогда я был молод, наивен. Вещь родилась из обычной газетной потребности. И осталась. Для меня здесь тоже есть какая-то тайна. Сейчас я стал умнее и пишу не так, как раньше, – иначе. Думаю, самая сильная сторона в «Теркине» – прозаические куски в стихах, диалогическая сторона.
– Саша, почитал бы что-нибудь, а? – певуче окая, мечтательно сказал Дементьев, подперев рукой подбородок. – Читаешь ведь ты превосходно. О Теркине вспомнили, и захотелось хотя бы строфу послушать. Рассказал бы, как ты читал поэму «Теркин на том свете» в присутствии Хрущева.
Твардовский засмеялся.
– Это для истории литературы рассказать? Тебе? Критику?.. Я люблю читать со свежа. А тут после меня много чтецов было. Много…
И он даже немного смутился, говоря это, но сейчас же опять вернулся к Бунину, заговорил серьезно:
– И все-таки, как только Иван Алексеевич оторвался от своей земли, то и потерял талант. Постепенно. И до опустошения.
– Простите, не согласен. – возразил я. – Нет, талант его не иссяк за границей. Ему помогла ностальгия по России, любовь к ней, память, воображение. «Темные аллеи» – это вершина прозы, какое-то волшебство слова. Ничего подобного в мировой литературе нет.
Он сказал раздраженно:
– Иной поэт в Чите не был, а в заграницах побывал. Едет куда ни попало… Свои, свои проблемы должен понят, а потом за чужой забор глядеть к соседу. Для русского писателя заграница – штука опасная, коварная, не очень нужная… Шмелев, Ремезов, Зайцев, Куприн зачахли там. – Он помолчал, затем спросил, казалось, непоследовательно: – Что сейчас пишете – о войне?
– Нет. Наши дни. Плохо продвигается.
– Зачем же это вы взялись за наши дни? Модно это, что ли? Вы войну хорошо знаете. Может быть, лучше других. Вы за модой не гонитесь, как один наш молодой громкий поэт, который дух с мухой срифмовать может или постель с растерянностью?
– Не угонюсь. Наверное, поэтому роман плохо продвигается.
Он усмехнулся, закурил, снова помолчал задумчиво.
– Мы не можем, конечно, вставать в один ряд со Львом Толстым и Пушкиным. Вот что интересно: «Анну Каренину» Толстой писал для денег, гонорар был отдан духоборам, считал, что ненужную вещь пишет. А мы… как бы вещь туго ни шла, как бы ни казалась нам мелкой, слабенькой, надо доводить ее до конца. Бог знает, что получится. Если демократия, то демократия нужна деревне, а нам за столом нужна монархия воли.
В первые дни нового, одна тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года повстречался с Твардовским и его другом Александром Дементьевым на перекрестке дачных аллей в Красной Пахре. Твардовский в теплой куртке, с самодельной палкой в руке, обрюзгший, небритый. Дементьев, похожий на медведя, грузный телом, тоже обросший седой щетиной, по обыкновению веселоватый, розовенький, маленькие глаза лукавы, брови над очками подвижны – заулыбался мне: «Здравствуйте в новом году!» Оба были навеселе.
– С Новым годом!
– С наступившим и шествующим! – сквозь смех закашлялся Твардовский. – А, валенки-то, валенки – белые! – И указал палкой на мои валенки. – Зачем это вы?
– В деревне по-деревенски, – ответил я шутливо. – Пытаюсь не оторваться.
– Кулацкие, – с таинственной иронией сказал шепотом Твардовский и наклонился ко мне, смеясь нетрезвыми светлыми глазами. – Донашиваю, надо ответить. Ну, я пошел, – кивнул он Дементьеву. – Вечером, может, свидимся. А то дачу открытой оставил, обворуют…
– Иди-иди, а то сейчас, знаешь, залезут в окна – камни вынесут. – Дементьев, посмеиваясь, поблестел очками, двинулся к своей даче.
Как-то мы вдвоем шли по аллее. Я спросил:
– Остаетесь в журнале, Александр Трифонович?
– Думаю вот. В деталях объяснить вам не могу. Выварка идет. Чтоб мясо от костей отделилось. В том, что происходит, большого ума не вижу.
– Слышал, как многие говорят – юбилейный год?
– Само слово «юбилей» к этому событию не подходит. Юб-би-лей – это умиленность, пышность ласковых, знаете, фраз, за которыми исчезает реальность. Вот так вот и будут целый год говорить всем реалистам. «Вы что же – праздник испортить хотите?» А пышность понравится многим, кому думать не хочется. Юбилей затянется надолго. Не на один год.
– А я думал сходить наверх, поговорить насчет своей повести, которую не печатают. Я говорю о «Родственниках».
– Бессмысленно. В частном случае никто ничего не решит. Я уж знаю. Понюхал эти коридоры. Ради всех вас, может быть. Знаете письмо о Байкале, подписанное полсотней академиков? Ну так вот. Не знаете?
– Не знаю подробностей.
– Подробности печальны. А что похудели? Работаете много? Курите?
– Курю. Иногда полторы пачки. А вы бросили?
Твардовский достал сигарету, помял ее в больших пальцах, закашлялся:
– И до двух пачек обходится.
Однажды он пришел на дачу с рукописью. Это было предисловие к девятитомному изданию Бунина и жесткий разговор, происшедший между нами, разделил нас надолго.
Однако истины ради надо сказать, что в посмертном собрании сочинений Твардовского уничижительных абзацев о последнем периоде в творчестве Бунина я не нашел.
Думаю, что в предсмертные свои дни он вышел из-под влияния цепко окружавших его пристрастных и критиков.
Клара
Рассказ художника
Посвящается дочери Кате
Моя профессия заставляет меня разъезжать по всей стране. Я люблю сходить ночью на лесных станциях, стоять на пустынной платформе, слушать отдаленные вздохи уходящего паровоза. Леса спят, и эхо гулко катится по просекам, как в длинных коридорах.
Я люблю шагать по вечернему лесу и слушать его шорохи, сонные вскрики птиц, попискивание куликов на озерах, потом шагать по проселку и видеть далекие огоньки на косогорах. Осенью они дрожат на ветру, и Орион всю ночь горит над лесами в омутах глухих водоемов.
Обычно я поселяюсь на все лето в деревне. Каждое утро встаю на заре и целый день брожу по полянам и проселкам.
Я испытываю волнение, когда сумерки застают меня вдали от деревни. Я вижу, как рождается ночь. Синий сумрак и туман ползут из неподвижной чащи на воду, и озера засыпают. На западе красноватый отблеск теплится, возле камышей, а с востока быстро надвигается темнота. И в притаившейся воде уже плавают зеленые звезды. Становится сыро и очень тихо. Иногда, мелькнув мимо угасающей над лесом поздней зари, на озеро со свистом, с плеском садится стая уток.
Я люблю проснуться на сеновале, где обычно сплю, перед самым рассветом. Мне зябко, к заре похолодало, в тишине кричат сверчки, щели в крыше полны лунного света, и сквозь раскрытый чердак сильно тянет из сада росистой свежестью. Облитый луной, сад словно стынет в лиловом дыму.