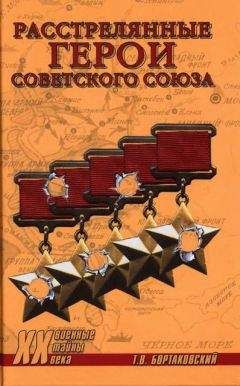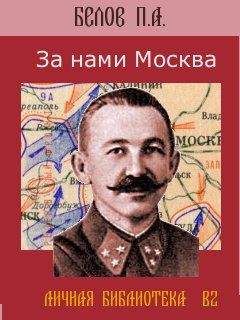Юрий Бондарев - Мгновения. Рассказы (сборник)
– Мне почему-то кажется, что надежда и безнадежность всегда двусмысленны.
– Да-да, пожалуй…
– Вы вчерне написали роман?
– Знаете, хвоя и человеческие клетки обновляются через семь лет. А я задумал роман двадцать лет назад. Вчерне он готов, да-да. Но я вписываю целые куски, будто вращиваю ткань в живое тело. Сложно это, трудно, мучительно.
14 августа 1985 года Леонид Максимович позвонил мне – голос его, не такой уж старческий для человека восьмидесяти пяти лет, по-прежнему обрадовал меня своей приятной заплетающейся скороговоркой:
– Я читал эту статью клеветническую… В «Комсомольской правде». Не горюйте. Меня, знаете, били, били здорово, весь я перебитый, а живу. Вы написали хорошую книгу, и надо было ожидать. Есть в вашей «Игре» недоделки, как в каждой работе. Зачем у вас гильотина в конце?.. Но – это ваше. Я, знаете, читаю Пушкина и Пушкина правлю. Мда… А знаете, что случилось? Вы стали авторитетнейшим писателем, они по вас и ударили. Так всегда в России было.
– Как вы поживаете, Леонид Максимович?
– По-стариковски, знаете. По стариковскому распорядку.
– Как чувствуете себя?
– Средне.
– Вы на даче? Работаете над романом?
– Да. Участок зарастает. Хозяин стареет, и участок вместе с ним. Умерла жена, мне сделали серьезную операцию. У меня химический состав стиля. Наверно, при жизни я не напечатаю роман. Сажусь каждое утро, но продвигается медленно.
Разговоры с Твардовским
Когда в редакции «Нового мира» познакомили с ним, он показался мне нелюдимым, угрюмоватым, без выражения глядевшим как бы сквозь людей своими светлыми глазами на одутловатом лице. Тогда, в редакции, он хвалил мои военные повести и как-то непоследовательно поругивал «Тишину», не совсем понятно, почему раздраженный сценой ареста («Вы пишете не о тридцать седьмом годе, а о сорок девятом, такого не было») и недовольный «постельными сценами» в романе («Зачем вы разрушаете русский реализм?»). В общем, у него было впечатление, что «Тишину» я сочинил после первых повестей, следуя успеху, слишком быстро: литературную торопливость он терпеть не мог. Я объяснил, что работал над романом три года, и запальчиво не согласился с его претензиями к любовной коллизии (Сергей – Нина, Ася – Константин) и особенно с его утверждением, что на дворе в сорок девятом году другие были времена, поэтому «трагическая история тридцатых годов не могла произойти с отцом Сергея Вохминцева». И сразу мое несогласие еще больше раздражило его. Он стал говорить горячее, я тоже начал горячиться, и чем упрямее возражал, тем яснее становилось мне – роман из редакции я, конечно, возьму… Но когда кончился наш накаленный разговор, он встал, начал надевать плащ, потом несколько смущенно повернулся от вешалки, протянул руку, прощаясь, сказал: «Я подумаю еще. И вы подумайте. Может быть, завтра я возьму все свои замечания обратно. В вашем романе есть блистательные сцены, о которых я не говорил».
В редакции мне сказали, что он бывает резковат и груб с авторами, но со мной, оказывается, разговаривал вежливей, чем даже с одним постоянным автором журнала, известнейшим мастером прозы. По этой причине у всех моих защитников романа в журнале осталось благостное впечатление от моей встречи с главным редактором («Ну, все в порядке»). У меня же было чувство душевной неопределенности оттого, что мой военный и житейский опыт неодинаков с опытом Твардовского, всегда казавшегося мне носителем простой мудрости солдатской, безупречного в знании народной жизни.
Однажды (уже был напечатан роман «Двое») случайно встретил его в редакции. Он вошел в отдел прозы почти бесшумно, замедленно, его белый лоб чуть хмурился, и особо заметны были в дневном солнечном свете из окна его блеклые голубые глаза на большом круглом желтоватом лице. Он подал медлительно крупную руку, слабо улыбнулся одними щеками, как умел улыбаться иногда, думая свое.
– Ну… как?
– Да вот пощипывают в «Литературке», в «Огоньке», ругают за мрачность, – сказал я чрезмерно бодро.
– Ну, ничего. Так и должно. Литература есть литература, – ответил он фальшиво-успокоительно, но в этой его фразе было что-то от участия свысока, некая олимпийская неприкасаемость человека, которого обходит, не задевая, суета земная, ибо известен, признан и много лет прочно защищен от всяческой критики своим положением первого поэта.
Он помолчал, хмуро взглянул в солнечное окно, за которым в морозном пару стояла длинными кольцами очередь вокруг кинотеатра «Россия» (за билетами на кинокартину «Тишина»), и, странно прищуриваясь, спросил:
– Приятно. Успех… Очереди-то на ваш фильм второй месяц мерзнут. – Он вяло пожал мне руку и вышел, а я, будучи еще не испорченным литературной средой, наивно подумал: «Неужто ему свойственно, как всем смертным, чувство ревности?»
Потом встретились в поезде на юг, и здесь, в дороге, я увидел его другим, нежели в редакции, – простым, оживленным, домашним. Целыми часами мы стояли у окна и, как бы узнавая друг друга, разговаривали обо всем, чего не касались при встречах в редакции, – о потерях на войне, о всевозможных ее деталях, о генералах и солдатах, о послевоенной жизни, о литературе русской классической и современной, о нищете мысли в критике, о разных поколениях писателей, о молодых талантах. Он, в ковбойке, полноватый в плечах, смотрел в окно, положив локти на опущенную раму, щурился, поправлял на теплом ветру волосы одной рукой, смеялся и от смеха хрипло закашливался. И показался он мне молодым, прямым, ядовитым в суждениях, веселым, умным литературной и житейской мудростью, со многим в нашей действительности несогласным, в отрицании сверх меры откровенным, и это поразило меня. И еще поразило то, что он говорил со мной как с равным, называл читаемым романистом, «зело известным», «писателем на волне», и было непонятно, чем это расположение объяснить: он редко кого хвалил в глаза. Возможно, хотелось быть добрым ему в дорожной обстановке, в ожидании Крыма, солнца, моря, отдыха?
Вот что я помню из разговора с ним:
– Писатели старшего поколения отмалчиваются, не вмешиваются в процесс литературы, считают – литература после них кончилась. Да, Шолохов создал себе при жизни памятник «Тихим Доном». Поклониться надо ему в ножки. Все остальное, им написанное, не идет в сравнение. Я ведь в журнале не напечатал вторую книгу «Поднятой целины». Слабо, слабо.
– Я с вами не согласен. В «Поднятой целине» есть гениальные страницы. Смерть Тимофея, к примеру…
– С «Тихим Доном» не сравнить. Другое. Помельче.
– Почему же? Смерть Тимофея Рваного на уровне «Тихого Дона».
– Вы, я вижу, поборник Шолохова, любите его.
– Наверное, выше его сейчас нет никого.
– …Вся наша критика – это контрольно-пропускной пункт. Критики нет, а есть КаПэПэ. На этом пункте не важно, талантлив ты или бездарен, красив или некрасив, высокого роста или малого. Важно другое – есть ли пропуск. «Ага! Свой! Проходи». И должна быть на пропуске фотокарточка. И чья-то подпись.
– …Слово, простое, обиходное, иногда запоминается на всю жизнь. Война, зима, холод, а в землянке – тепло, печка. Вошел часовой, солдатик, сменился с поста, сел у печки, сказал: «Иззябся я», – и заплакал от этого тепла, оттого, что завтра в бой, «Иззябся я». Хорошо!
– …Сигареты кончились? Могу взять вас на полное дымовое довольствие.
В Коктебеле, жарким днем, стоя в очереди за газетами в киоске на набережной, спросил его, усталого, молчаливого:
– Работаете, Александр Трифонович?
– Притворяюсь. Ловлю по утрам минуты.
Солнечным июльским утром на даче он пришел вместе с критиком Александром Дементьевым, волосы у обоих мокрые, глаза прозрачные после купанья, от свернутых полотенец пахло речной сыростью. Мы сели за столик под яблонями, он закурил сигарету, в раздумье посмотрел на меня, на Дементьева и почему-то сразу заговорил о военных романах:
– В последние годы появился надоевший, хотя и талантливый шаблон. Романисты обвиняют во всех грехах и бедах тридцать седьмой год: мол, были посажены опытные командиры, поэтому, мол, отступали, драпали в сорок первом. И у генерала Горбатова, которого мы печатали, ясная концепция: командиры на Колыме, а немцы войну начали. Читали Горбатова? Бог с ним, это его личный опыт. Нет; не в этом вся причина. Ведь то, что пришла в армию молодежь, прекрасно было. Генерал Черняховский погиб в тридцать восемь лет. Начал майором. А многие талантливые генералы капитанами начинали, старшими лейтенантами, даже лейтенантами. Здесь Сталин понимал кое-что главное. Снял Буденного, Ворошилова в начале войны, этих боевых, так сказать, опытных командиров, которым не то что не повезло, а которые устарели для новых методов войны. Нет, причина наших поражений была в ином. Тридцать седьмой год не объясняет всего. Романисты заблуждаются.
И тут же сказал о повести «Последние залпы».
– Могла принести вам огромную славу, но как-то мешал Казакевич своей «Звездой». Он был любимец критики – а вы вроде бы чужой. Написано у вас правдиво, сильно… и какая-то, что ли, обреченность. Критика к этому не привыкла. Вы из окопов только могли ее написать. – И спросил: – Вы офицер?