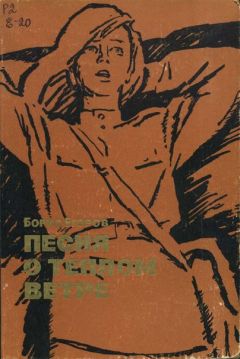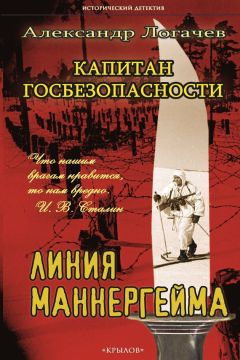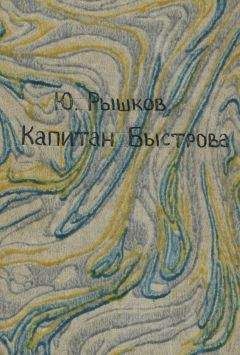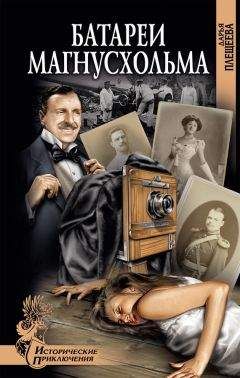Юрий Додолев - Мои погоны
— Может, не надо, Коль? — полувопросительно произнесла Мария Васильевна. — Тебе же вредно.
— Ничего, мать, немножко можно! — Отделившись от тележки, Николай Васильевич ловко взобрался на стул. — Сообрази-ка нам закусить.
Мария Васильевна замялась, посмотрела на мужа. Тот понял ее взгляд, повернулся ко мне:
— Извиняй, солдат, если закуска будет не та. Сам видишь, небогато живем: вон их, ртов-то сколько! Каждой обувку, каждой платьице надо да разные ленточки-бантики. Раньше я домой тыщу чистыми приносил, а теперь — пенсия. Правда, райсобес подбрасывает кое-что: то орде-рок на отрез, то пособие, но все равно — маловато. Старшая вон школу бросать хочет, на работу устраивается. Может, оно и правильно — все ж копейка в дом. А младшеньких мы вытянем. Верно, мать?
— Верно, верно, — закивала Мария Васильевна. И добавила виновато: — Вот только не придумаю, что на стол подавать. Лук у меня есть и хлебца немножко.
— А соль? — воскликнул Николай Васильевич. — Лук с солью — закусь наипервейшая. Тащи, мать, то, что есть. Не в обиде будешь, солдат?
— Не беспокойтесь понапрасну, — сказал я, пожалев, что не захватил часть пайка, выданного мне в госпитале.
Мария Васильевна позвала старшую дочь и вышла с ней.
— Вот так и живем, солдат, — вздохнул Николай Васильевич. Дотронувшись пальцем до бутылки, добавил: — Он ее и в рот не брал. Когда на фронт уходил, ему шестнадцать было. Помню, раздобыл четвертку, ему налил. А он: «Спасибо, батя, не хочу!» Сказал, что до самой смерти пить ее не будет. Жене понравилось это. Да и мне, признаться, по нутру пришлось. Я до войны не очень-то баловался этим. А сейчас тянет. С горя, видать: сам калека и сына единственного потерял. Ведь я почему с госпиталя не возвращался? Обуза, думал, лишний рот. Почти год не писал, а потом не выдержал. От сына письмо получил. — Николай Васильевич поскреб щеку, усмехнулся. — Расчехвостил меня Колька — не приведи бог. Вскорости после этого он и погиб. Вернулся домой — аккурат через месяц похоронка. Орденом его посмертно наградили. В военкомате сказали, что он сам напросился с разведчиками в тыл к немцам. Собрали они сведения и тут осечка — засекли. До последнего патрона отбивались. А разведданные Колька по рации передал.
— Он хорошим радистом был, — вспомнил я. — Сто тридцать знаков в минуту принимал. И передавал столько же.
— Я не мастак в этом деле, — признался Николай Васильевич.
— Сто тридцать знаков в минуту — это очень много, — объяснил я.
Инвалид помолчал.
— Заика вручил орден, офицер.
— Шубин?
— Может, и Шубин — жена получала орден.
«Шубин, — решил я. — Ведь мы с Колькой из одного военкомата».
Мария Васильевна внесла очищенные луковицы, крупную соль в деревянной солонке, несколько ломтиков хлеба.
— Как фамилия офицера, который вам Колин орден вручал? — спросил я.
— Он не назвал себя, — ответила Мария Васильевна.
— А какой он из себя?
Хозяйка смущенно улыбнулась.
— Мне в тот день не до него было. Вроде бы среднего роста, с протезом — это я точно помню.
— Шубин! — уверенно сказал я. — Мы с ним большие друзья. Завтра обязательно навещу его.
— Не застанете, — возразила Мария Васильевна. — Говорил он, когда орден вручал, что последнюю неделю служит. На отдых его отправили — здоровье лечить.
— Да-а… — Николай Васильевич вздохнул. — Давай, солдат, помянем Колю, дружка твоего и сына нашего.
Мы выпили. Мария Васильевна пить не стала — только пригубила рюмку.
Инвалид хмелел. Его глаза затуманились, лицо покраснело. Он стал ругать какого-то Лапушкова.
— Из-за него, паразита, я ног лишился!
— Полно, отец, — сказала Мария Васильевна. — Может, не виноват он.
— Виноват! — Николай Васильевич трахнул кулаком по столу. — Я ему, обормоту, говорю: откатим орудие в кусточки — маскировка все ж, а он уперся, как баран. Тут нас и накрыло.
— Живой он остался? — спросил я.
— Кто?
— Лапушков этот.
— Навряд ли. — Николай Васильевич уронил голову на стол.
«Пора!» — подумал я. Попрощался с девочками — с каждой за руку. Оставил Марии Васильевне домашний адрес — на всякий случай.
— Заходите, — пригласила она.
— Обязательно! — Мне хотелось помочь этим людям, хотелось сделать для них все, что было в моих силах.
Петровы жили неподалеку от Зины. Я увидел ее дом и решил зайти к ней: эта девушка по-прежнему волновала меня.
32
У Зины гуляли. Посреди стола, на самом почетном месте, стояло блюдо с селедочной головой. Кружочки крупно нарезанного лука плавали в уксусе, в котором виднелись золотистые вкрапинки растительного масла. Кроме селедочной головы, картофеля, сваренного в мундире, наполовину опорожненной банки свиной тушенки, другой закуски на столе не было. Чуть в стороне от стола, на тумбочке, возвышались тарелки с объедками. Пузатые фляжки, бутылки с этикетками и без них распространяли винный запах. В комнате было накурено. Свет от оранжевого абажура с трудом пробивал мутный воздух. За столом сидели Зина с подругой и Фомин — возмужавший, располневший. В его глазах светилась бесшабашная удаль, которая появляется тогда, когда море кажется по колено, когда слова сами собой слетают с языка, когда все хорошо и хочется, чтобы было еще лучше.
— А-а… — сказал Фомин, приподнимаясь мне навстречу. — Легок на помине! Мы тебя только что вспоминали. Она вспоминала, — уточнил Фомин, посмотрев на Зину. — Демобилизовался или в отпуск?
— Демобилизовался.
— А я вот гуляю, — сообщил Фомин. — На десять суток отпуск дали. А потом по новой трубить. Но — не хочется. Справку бы достать про болезнь, чтоб по чистой, значит.
Зина курила, поднося резким движением папироску к ярко накрашенному рту. Она была рада мне — я чувствовал это.
— А Ярчук где? — спросил я.
— Живой, — ответил Фомин. — Да мы с ним не встречаемся.
— А Петров погиб, — сказал я. — Помнишь его?
— Петров? — переспросил Фомин. — Какой он из себя?
— Маленький такой. С большими глазами.
— А-а… — Фомин помрачнел. — Это тот самый, с которым вы тогда, — он выделил слово «тогда», — на меня наскочили?
— Он самый.
— Помню его. — Фомин кивнул. — А Ярчука мне жаль: в последнее время он скурвился. Письма присылал мне идейные, прошлого совестился, намекал: кончать-де надо с веселой жизнью. Я и на фронте не терялся. Приволок оттуда добра разного вагон и маленькую тележку. Зинка подтвердит, если не веришь. Часы ей привез золотые. Покажь, Зинка, какие я тебе часики отвалил.
— Не мели языком! — Встретившись с моим взглядом, Зина убрала руку под стол.
— Боишься — отберу? — Фомин захохотал. — Не бойся, не отберу. У меня таких пятнадцать штук. И еще кое-что есть. Машинных иголок — не счесть привез. Справлялся на рынке: штука — червонец. На год обеспечен!
— А дальше что? — спросил я.
— Там видно будет, — ответил Фомин. — Умный человек всегда найдет, как прожить.
— Кстати, ты в каких частях воевал?
— Секрет. — Фомин ухмыльнулся.
— Секрет?
— Секрет. — Он продолжал ухмыляться.
— Скажи-ка, чем пахнет немецкий тол? — Я спросил первое, что пришло в голову.
Фомин растерялся. Потом процедил, виляя глазами:
— Ты что, экзамен мне устраиваешь?
— Хотя бы. — Я старался поймать его взгляд.
— Не принюхивался! — отрезал Фомин.
Зина и ее подруга не сводили с него глаз.
— Тоже мне вояка, — скривил губы Фомин. — Побыл на фронте без году неделя и воображает.
— Не воображаю — горжусь, — уточнил я. — А немецкий тол чесноком пахнет — запомни это.
Фомин достал носовой платок, вытер лицо.
— Не один ты воевал — мне тоже пришлось хлебнуть.
— В трофейной команде, — выдала Фомина Зинина подруга — та девушка, которая в ноябре 1943 года провожала Ярчука. Сейчас она была не в тельняшке — в обыкновенном платье и, кажется, без пудры.
— Ну и что с того! — взорвался Фомин. — Там тоже опасно было. Двое наших на мине подорвались.
Я расхохотался.
— Теперь понятно, откуда у тебя часики и все прочее.
— Ловкость рук и никакого мошенства! — с вызовом произнес Фомин.
— Вижу, — Я постарался вложить в это слово презрение к нему.
Фомин сделал вид, что не понял, развалился на стуле, вынул портсигар, закурил.
— Тоже трофейный? — поинтересовался я.
— Ага, — с издевкой откликнулся он. — Из чистого серебра. Двести шестьдесят граммов в нем — сам взвешивал.
Повернувшись к Фомину, Зина сказала:
— Хвастливым ты стал.
— Не дрожи! — Фомин посмотрел на меня. — Он ничего не докажет. Трофеи — это трофеи. А с карманными кражами покончено! Отслужу — агентом по снабжению устроюсь. Или еще куда-нибудь, где не пыльно. Будем жить мы с тобой, Зинка, как король с королевой!