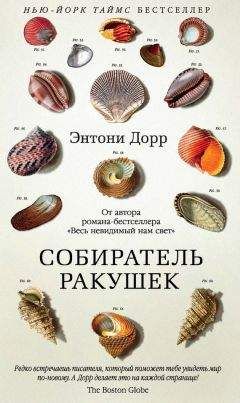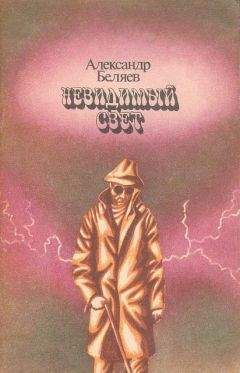Энтони Дорр - Весь невидимый нам свет
Старшеклассники по-прежнему наполняют ведра. Заключенный обвис на веревках. Фолькхаймер, еще огромнее обычного, то и дело выступает из темноты, заставляя того встать прямее.
Старшеклассники ушли в замок. Наполняемые ведра глухо клацают друг о друга. Шестнадцатилетки закончили. Пятнадцатилетки закончили. Крики «ура!» звучат без прежнего задора. Больше всего на свете Вернеру хочется убежать. Убежать куда глаза глядят.
Три мальчика до него. Два. Вернер пытается вызвать образы дома, но на сей раз они страшны: копер над Девятой шахтой, шахтеры, ссутуленные так, будто тащат за собой тяжелые цепи. Мальчишка на вступительных экзаменах, дрожащий под потолком, прежде чем упасть. Каждый прикован к своей роли: сироты, кадеты, Фредерик, Фолькхаймер, старая еврейка с верхнего этажа. Даже Ютта.
Когда приходит его черед, Вернер, как все, выплескивает воду заключенному на грудь, слышит жидкие «ура!» и пристраивается в хвост ребятам, ждущим, когда можно будет идти в замок. Мокрые ботинки, мокрые манжеты. Руки так онемели, что кажутся чужими.
Через пять мальчиков от него стоит Фредерик. Фредерик, который плохо видит без очков. Который не кричал «ура!» вместе со всеми. Который вглядывался в заключенного, словно различил что-то знакомое.
И Вернер понимает, как тот сейчас поступит.
Стоящий сзади выталкивает Фредерика вперед. Старшеклассник подает ему ведро, и Фредерик выливает воду на землю.
Подходит Бастиан. Его лицо раскраснелось от мороза.
— Дайте ему еще ведро.
И вновь Фредерик выплескивает воду себе под ноги. Говорит тихо, тоненько:
— Он уже и так полумертвый, господин комендант.
Старшеклассник протягивает третье ведро.
— Вылей на него! — приказывает комендант.
Ночь клубится морозным паром, звезды горят, заключенный раскачивается, мальчики наблюдают, комендант склонил голову набок. Фредерик выливает воду на землю:
— Не буду.
Пляж-дю-Моль
Уже двадцать девять дней, как отец Мари-Лоры пропал без вести. Она просыпается оттого, что тяжелые туфли мадам Манек взбираются на третий этаж, на четвертый, на пятый.
Голос Этьена на лестничной площадке перед его комнатой:
— Не надо.
— Он не узнает.
— Теперь за нее отвечаю я.
В голосе мадам прорезается неожиданная сталь:
— Я не стану терпеть и секундой дольше!
Мадам преодолевает последний лестничный пролет. Скрипит дверная ручка. Старуха проходит через комнату и кладет тяжелую руку Мари-Лоре на лоб:
— Не спишь?
Мари-Лора откатывается к стене и отвечает из-под одеяла:
— Не сплю, мадам.
— Я поведу тебя на прогулку. Возьми свою трость.
Мари-Лора одевается. Мадам уже ждет ее внизу, с горбушкой белого хлеба. Повязывает Мари-Лоре на голову платок, застегивает пальто на все пуговицы и открывает парадную дверь. Конец февраля, раннее безветренное утро, воздух пахнет дождем.
Мари-Лора прислушивается, не смея сделать шаг. Сердце громко стучит: два, четыре, шесть, восемь.
— На улицах еще почти никого нет, золотко, — шепчет мадам Манек. — И мы ничего дурного не делаем.
Скрипят ворота.
— Ступенька, дальше прямо.
Под ногами неровная мостовая. Кончик трости застревает между камнями, дрожит, снова застревает. Слабый дождик стучит по крышам, журчит по водосточным желобам, покрывает платок мелкими бусинами капель. Звуки эхом отдаются от высоких домов; у Мари-Лоры, как в первые часы здесь, такое чувство, будто она в лабиринте.
Высоко над ними кто-то вытряхивает в окно тряпку. Мяукает кошка. Какие ужасы тут притаились? От чего папа так старался ее уберечь? Они поворачивают один раз, второй, затем мадам Манек неожиданно для Мари-Лоры ведет ее налево, к заросшей мохом городской стене, в арку.
— Мадам?
Они выходят из города.
— Осторожно, ступеньки вниз. Раз. Два. Ну, вот и все, проще простого!
Океан. Океан! Прямо перед нею! На этот раз так близко! Он шипит, грохочет, плещет и растекается. Гулкие лабиринты Сен-Мало вывели на открытое место — Мари-Лоре еще не доводилось бывать на таком просторе. Он больше ботанического сада, больше Сены, больше самых больших музейных галерей. Она и вообразить не могла, что он будет таким, не понимала его масштаба.
Она поднимает лицо к небу и чувствует уколы тысячи крохотных капелек на щеках, на лбу. Слышит хриплое дыхание мадам Манек, низкий рокот моря среди камней, чьи-то крики на берегу, отражающиеся от высоких стен. В голове у нее звучит скрежет отцовского напильника по металлу, шаги доктора Жеффара по кабинету. Почему они не рассказали ей, что море будет таким?
— Это мсье Радом зовет свою собаку, — говорит мадам Манек. — Бояться нечего. Вот, возьми меня за руку. Сядь и сними туфли. Закатай рукава.
Мари-Лора послушно исполняет сказанное.
— Они за нами наблюдают?
— Боши? Если и наблюдают, что с того? Они увидят старуху и девочку. Я скажу, что мы собираем моллюсков. Что нам сделают?
— Дядя говорит, они закапывают на берегу мины.
— Нашла кого слушать. Он и муравья боится.
— Он говорит, Луна притягивает к себе океан.
— Луна?
— И Солнце иногда тоже. Он говорит, у островов из-за приливов возникают воронки, которые могут затянуть рыбачье суденышко.
— Мы же не будем к ним приближаться, золотко. Мы тут, на берегу.
Мари-Лора снимает платок и отдает его мадам Манек. Соленый, водорослевый, серо-блестящий воздух забирается за воротник.
— Мадам?
— Да?
— Что мне делать?
— Просто иди.
Она идет. Вот под ногами холодная окатанная галька. Вот — хрусткие водоросли. Вот что-то более мягкое — гладкий мокрый песок. Она наклоняется и растопыривает пальцы. На ощупь он как холодный шелк. Роскошный холодный шелк, на который море выложило дары: окатанные камешки, раковины, щепки. Пальцы зарываются в песок, щупают; капельки дождя колют шею сзади, тыльную сторону ладоней. Песок выпивает тепло из кончиков пальцев, из босых ступней.
Узел, который Мари-Лора весь месяц чувствовала в себе, понемногу слабеет. Она идет, нагнувшись, вдоль приливной полосы медленно-медленно и воображает, как берег тянется в обе стороны, очерчивая мыс, обнимая внешние острова — всю ажурную филигрань бретонского побережья с его заросшими мысами, полуразрушенными батареями и развалинами средь дикого винограда. Воображает город у себя за спиной, его высокие укрепления, спутанные улочки. И внезапно он становится маленьким, как папин макет. Только папа не сумел передать то, что окружает макет. И оно — то, что вокруг макета, — поразительно.
Над головой проносятся чайки. Каждая из сотен тысяч песчинок в кулаке Мари-Лоры трется о соседнюю. Ей кажется, что отец поднял ее в воздух и три раза прокрутил.
Никакие немецкие солдаты их не арестовывают. Никто даже с ними не заговаривает. За три часа онемевшие пальцы Мари-Лоры нашли медузу, обросший ракушками буй и тысячу отшлифованных морем камешков. Она зашла в воду по колено и вымочила подол платья. Когда мадам Манек наконец приводит ее, мокрую и ошарашенную, на улицу Воборель, Мари-Лора взбегает на пятый этаж, стучит к Этьену и входит. Все лицо у нее в мокром песке.
— Вас долго не было, — тихо произносит он. — Я волновался.
— Вот, дядя. — Из кармана она вынимает ракушки и тринадцать шершавых от песка кварцевых окатышей. — Я принесла тебе это. И это, и это, и это.
Гранильщик
За три месяца фельдфебель фон Румпель съездил в Берлин и в Штутгарт; оценил сотню конфискованных колец, десятки браслетов с бриллиантами, латвийский портсигар с голубыми топазами. Последние недели он живет в парижском Гранд-отеле и рассылает запросы, как почтовых голубей. Каждый вечер перед ним заново оживает мгновение, когда он двумя пальцами держал увеличенный лупой грушевидный алмаз и верил, что перед ним стотридцатикаратное Море огня.
Он смотрел в льдисто-синее нутро камня, где миниатюрные горные хребты горели алым, коралловым и малиновым огнем, а многоугольники цвета вспыхивали и гасли при вращении, и почти убедил себя, что легенды не лгут, что столетия назад царевич носил корону, ослеплявшую гостей, что владелец камня бессмертен, что прославленный алмаз извилистыми путями истории скатился точно ему в ладонь.
То была несравненная радость торжества, но к ней примешивался страх: камень казался зачарованным, не предназначенным для человеческих глаз. Такое, раз увидев, не забудешь.
Но. Рассудок все-таки взял верх. Грани сходились под недостаточно четким углом, рундист блестел не алмазным, а чуть жирным блеском. А главное, в камне не было тончайших трещинок, вростков, ни одного включения. «Не бывает настоящих алмазов без дефектов, — говорил когда-то отец. — Настоящий алмаз всегда небезупречен».