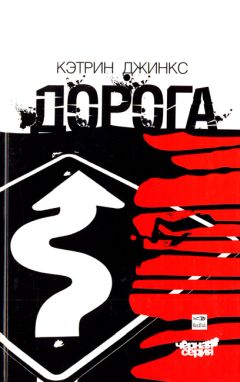Иван Леонтьев - Тяжело ковалась Победа
Холодные темные окна смотрелись пустыми глазницами. Дома напоминали покойников.
Удобнее всего сиделось, лучше – лежалось. Стоять или идти было тяжело и казалось насилием. Голова все время была отуманена. Хотелось одного – наесться. Кто разом съедал свой хлеб, тех не спасла весна сорок второго, когда даже увеличивали норму на хлеб. Карточки стали отоваривать, зелень была многим доступна, но люди все равно погибали. Особенно те, кто трясся от одного вида тарелочки супа.
По дороге в эвакуацию на крупных станциях давали обеды и положенный паек, но многих подстерегал дистрофический понос.
– Ольга, – продолжал Алексей Михайлович, – моя старшая сестра, еще до раскулачивания вышла за Максима и уехала в Ленинград. Он кровельщиком работал. Они неплохо жили. Дочка всегда была нарядная, с бантиком на голове и часто пела, когда приходили гости:
Слушай, Оля, вырасту большой –
Мы поженимся с тобой.
Я себе для красоты
Выращу большущие усы…
Ольга с Валентиной всю блокаду пережили. Максим с первых дней служил под Ленинградом.
Валентина уже после смерти матери показывала мне отцовские письма.
В августе сорок первого он просил Ольгу никуда не уезжать, даже если и предложат, потому что скоро все закончится. И сообщал, как лучше к нему добраться, если захотят увидеться: «Сесть на Лиговском на двадцать седьмой трамвай, доехать до завода «Светлана», там пересесть на двадцатый автобус и выйти на станции Девяткино. Тут северные ворота гарнизона. Приезжайте!» «Дочура, тебе, наверное, страшно во время налета варваров? Потерпи еще немного – может, пару недель, а там разобьют прохвостов и выгонят. Тогда вздохнете свободно, и я к вам приеду», – писал он первого октября.
Девятого октября Максим советовал ехать к нему уже на десятом трамвае, до Ржевки, там пройти километров пять к южным воротам. Жаловался на черный липкий хлеб, который им давали: «От него, по-видимому, желудок-то и заболел, а когда воробьиная порция привилась, и болезнь прошла. Теперь все в порядке».
«Семнадцатого октября, – писал Максим, – у меня появилась опухоль на лице, на ногах, на руках. Ходить стало тяжело. Врач освободил меня от всякой работы, а через четыре дня никакой опухоли не нашел. На самом деле она не проходила. Это не только у меня. Половина ходят опухшими. Доктор знает, отчего, но лечить нечем, кормить нечем и освобождать нельзя. Так и служим – как живые трупы, ветром шатает».
«Дома я осуждал Александра, – писал он в конце ноября сорок первого, – считал его бесхарактерным, а последний поступок (самоубийство) – глупым. Теперь понял его душевное волнение, хотя еще не испытал того, что перенес он в прошлую войну. Мне кажется, что он распорядился своей судьбой правильно. Чем мучиться, лучше сразу умереть. Вот и настало время, когда живые завидуют мертвым. Я по себе чувствую, что до конца сорок первого дотяну, а дальше – не знаю».
Двадцать пятого декабря Максим сообщал: «Посылочка меня оживила. Теперь продержусь недели две, а там уже должно быть улучшение, иначе все свалимся. Очень многие болеют – приходится их заменять, работы прибавилось».
Больше писем не было.
Однажды, когда Ольга ушла на работу, моя матушка увидела ее юбку на кровати, проворчала: «Плохая примета». И послала внучку. Ольга не поверила, распахнула пальто – удивилась: стоит без юбки… А вскоре весть о гибели Максима пришла.
Родитель мой умер в феврале сорок второго, а матушка – весной.
Ольга отдавала свою пайку дочери, а сама перебивалась на столовской похлебке. К весне она высохла. Однажды потеряла на работе сознание. Ее положили в заводскую больницу. Двенадцать дней она не приходила в сознание. Врачи не надеялись на выздоровление, утром справлялись: «Смирнова не умерла?» Последние дни Ольга слышала эти разговоры как во сне, но не относила их к себе, а в уме молилась. Солнце ли заглянуло ей в глаза, или на самом деле Ольга видела, как перед ней опускается икона Николая Чудотворца, которая висела дома, она не поняла, но с того дня силы стали прибывать. В День Победы она всем со слезами рассказывала про это видение. Потом за военного вышла и перебралась в Москву.
6– В День Победы только умершие не ликовали, – подхватил мысль о конце войны Юрий Павлович, внимательно наблюдая за пляшущим поплавком, готовый в любую минуту дернуть удилище. – Радость такой ценой досталась, что невольно все плакали. Заплатили полной мерой. Из эвакуации тоже многие не вернулись. Двор вначале пустой был. Оказывается, Гогочка с матерью еще в марте сорок второго на Ладоге под лед вместе с машиной ушли…
– Матрена моя после войны не захотела в город возвращаться. Как эвакуировалась в сорок втором с дочкой в деревню, так и осталась в родительском доме, – перебросил удочку Алексей Михайлович. – Комнату нашу в Ленинграде снарядом разворотило. Ремонтировать надо было или скитаться по углам. Одним словом, не пожилось ей в Ленинграде. Сказала, век больше в город не поеду. В деревне, мол, все мое: соседи, усадьба, а там – как загнанная. Невский, Садовую не любила из-за толкотни – ходила, когда уже прижмет. А на Сенной рынок – так через дворы с Фонтанки до последнего дня бегала.
Меня в райком инструктором взяли: в партию-то я еще на фронте вступил. Матрена вначале полы мыла, а потом ее старшей сделали. Она там до пенсии и отработала. Антонина училась. Я зиму и лето по деревням мотался: то сдача хлеба, то лесозаготовки, то подписка на заем, то посевная – так и кочевал по колхозам, всякого насмотрелся. Весной лошадей в стойлах еще кое-где на веревках держали, чтобы не падали, а то ведь не поднять утром. Скот в войну был подморен.
Колхозникам на трудодни мало чего доставалось, но на заем-то их тоже подписывали.
Каждому сельсовету план давали. Ночами сидели, бывало, пока всех не охватим. Посыльную по нескольку раз за упрямыми колхозницами гоняли. До сих пор из головы не идет беседа с одной солдаткой. В избе у нее печь да лавки, на дворе коровенка – мослы торчат. И все! Это только в газетах писали гладко, когда рапортовали… А нам ведь подписи были нужны, иначе потом деньги не востребуешь.
Помню высокую рябую колхозницу. Муж у нее на фронте погиб. В избе трое малых детей. Она только что с лесозаготовок вернулась – колхоз посылал. Старшей дочке двенадцать, а двум другим – семь и четыре. Отец младшенькую так и не видел. Первый раз Таисия даже разговаривать не намеревалась. Как стала в дверях, так и не шелохнулась. Зло из нее так и перло. Мы долго ее уговаривали. Председатель колхоза упрашивал. «В лесу, – говорит, – ты на колхозных харчах жила, значит, в доме творожок, маслишко, поди, девчата прикопили. Продашь – смотришь, сколько-то уже погасишь. У других и этого нет». – «Ты свою бабу пошли! Сразу масла набьешь!» – рубанула Таисия. Тут хромой бригадир, что сидел рядом со мной, решил свое ввернуть: «А нам на лесосеке выдали штаны на вате, на бе-е-елой вате, по килограмму хлеба на рыло и газет – сколь хошь кури. Во! С собой еще прихватил!» – «Ну и радуйся», – огрызнулась Таисия и скрылась.
Второй раз ее вызвали – она опять столбом в дверях и нас ровно не видит.
На третий мы уже ополчились. «Ну! Сколько будешь подписывать?» – накинулся председатель. «Нисколько». – «Как так?! Лукерья – и та подписалась! – уколол секретарь. – А у нее и коровы нет». – «У нее и детей нет». – «Девчата у тебя уже помощницы». – «За столом», – пререкалась Таисия. «Последний раз спрашиваю: на сколько подписываешься? – с угрозой смотрел на худущую колхозницу председатель и сжимал небритые костистые скулы до желваков. – Все подписались! Ты одна осталась!» – «Не все!» – «Учти, – погрозил желтым прокуренным пальцем председатель, – летом косить не дам. Тогда за мной побегаешь!» – «Нет у меня денег! – сорвалась на крик Таисия. – Нет!!! Где я их возьму?!» – «А где другие берут?! – вмешался секретарь. – Там и ты бери!» – «Нет у меня денег! – подскочила она к столу – и ну хлестать по столешнице сухими, как хворостины, руками, даже чернильница из толстого стекла заплясала. – Негде мне взять!» – и в рев. «Корова доится? Накопишь творожка! Собьешь маслица! И в Череповец вместе с бабами на саночках! Так и будешь гасить! А как все-то? Народное хозяйство надо восстанавливать! Или ты против политики партии?» – наседал опытный председатель. «Нет!!!» – «Тогда подписывай!!!» – «Не буду!!! – завопила Таисия. – Мне детей кормить нечем!!!» – и начала молотить жилистыми руками по столу. «Нечем?! – вскочил секретарь совета. – А сто двадцать ведер картошки – это тебе что?! Не еда?!» – «Откуда взял?! Сто восемь! – в запале вскрикнула Таисия. – Не буду подписывать!!!» – «Будешь!!! – приподнялся председатель. – Говори, сколько!» – «Нисколько!» – вскочила с лавки уставшая женщина, как пьяная, и заметалась взглядом по углам, вроде выход искала. «Смотри, Таисия! – указал желтым пальцем в потолок председатель. – Хуже себе делаешь!» – «Себе не сделай!» – метнула злой взгляд колхозница и с ревом загремела по расшатанным ступенькам сельсовета. Долго она ходила, плакала.