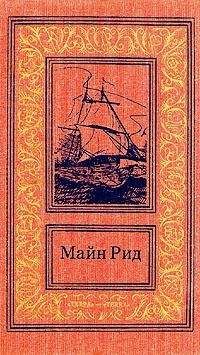Брюс Федоров - Вестники Судного дня
Приговор один для каждого и для всех малодушных и капитулянтов. Положили ладони на пистолетные кобуры чекисты и встали рядом с командирами полков, дивизий, корпусов, чтобы каждый из них был уверен в том, что возмездие за трусость и преступную ошибку будет неотвратимым.
Такова воля народа. Мы за ценой не постоим.
Стал биться он тогда, не щадя ни себя, ни врагов, за горькую свою Родину, за вспаханную им и политую солёным потом кормилицу-ниву, за босоногих в коротких рубашонках малых детей, за любимую жену, с волнением ждущую новую радость. Не остановить тогда этот народ, не успокоится он, пока не завершит свое праведное дело. И скоро безошибочным чутьем поймет необратимость приближающейся долгожданной и выстраданной Победы, когда наконец отложит солдат автомат в сторону, расстегнет тугой кожаный ремень с краснозвёздной бляхой, стянет через голову не раз штопанную гимнастёрку и скинет с распухших ног надоевшие кирзовые сапоги. Смотает пропотевшие портянки, чтобы пальцами, всей ступнёй почувствовать живительный холодок земли-матери, вскормившей и вспоившей его, которую он сберёг ценой собственной крови.
И тогда, расстегнув ворот холщовой нательной рубахи, присядет солдат на ствол поваленного берёзового дерева, и скрутит в палец толщиной цигарку с терпким донским табаком, и не торопясь выпьет стакан мутного бурачного самогона. Первый за Победу. Второй за упокой души павших братьев-товарищей, которые в этот момент все незаметно соберутся вокруг него и поведут с ним неспешный молчаливый разговор.
* * *Не здесь ли, у берегов канала Москва-Волга, в двадцати километрах от Красной площади, собралась та удивительная, будто выросшая из ниоткуда сила, которая одолела-таки вселенскую нечисть и сломала хребет самой совершенной в мировой истории военной машине? И освобожденные народы многих краёв и земель, облегченно вздохнув, склонились перед советским солдатом в поясном поклоне и благодарили его за вновь обретённую жизнь.
Беспощадное время сотрет из памяти людей и бескрайнее горе, и безмерные лишения, оставив навечно только светлый лик небывалой и невиданной никогда ранее Победы.
Октябрь 2016 года
II. Хочешь дотянуться до Рая, загляни вначале в Ад (Повесть)
«Бооом», – тревожный удар колокола вырвался из-под бронзового купола, заполняя тягучим гулом всю землю и небо. «Бооом», – опять качнулось языковое било, досылая новые звуковые волны вслед затухающему эху. Должно быть, это дядька Захар, пономарь Николаевской церкви, что в городе Старобельске, взобрался на свою колокольню и вызванивает к вечерней службе, а может и к заутрене. Неймется старому. Видимо, разболелась его калечная нога, вот и попутал время. Только для чего он сегодня обрядился в широкую цветастую рясу с красно-жёлтыми разводами и размахивает ею перед моими глазами, ровно испуганная баба своим подолом перед мордой хуторского бугая?
– Hey Du, Ivan, bist Du tot, oder? /Эй, Иван, ты мертв или?/ – донесся странный голос откуда-то сверху.
«Почему это наш звонарь разговаривает со мной не по-русски? – из мерцающей дали выплыла первая несвязная мысль. – А может быть, это и не он, а кто-то другой хочет поговорить со мной? – пробудившееся сознание принялось собирать воедино разорванные осколки. – Надо открыть глаза и посмотреть на этого человека», – до того неподвижные глазные яблоки задергались под тонкой кожицей сомкнутых век.
– Also, der Kerl ist noch am Leben. Sehe mal, er versucht die Augen zu offnen /Смотри-ка, парень, кажется, жив. Пытается глаза открыть/, – стоявший над распростёртым телом Семёна Веденина немецкий пехотинец опустился на корточки, положил на колени автомат и рукой с закатанным до локтя рукавом потряс его за подбородок.
– Du, Ivan, stehe doch auf! /Ты, Иван, вставай же наконец!/
– Lass ihm im Ruhe. So wie so ist er halb tot. Besser erschisse ich ihm. Der Kerl stinkt wie ein geschlachtetes Schwein /Оставь его. Всё равно он наполовину мёртв. Лучше я пристрелю его. Воняет, как дохлая свинья/, – до того безучастно смотревший на распростёртое в пыли тело Семёна коренастый веснушчатый капрал передернул затвор и приставил карабин к голове красноармейца.
– Warte mal, Kurt. Unserer Hauptman sagte uns das wir die Gefangenen als Hilfsarbeiter brauchen /Подожди, Курт. Наш капитан сказал, что нам нужны военнопленные для вспомогательных работ/, – первый немец предупреждающе поднял руку. – Der ist schon wach /Он уже очухался/.
Семён, ещё лежа, судорожно задвигал вначале ногами, затем руками, потом с усилием приподнялся на колени, упираясь ладонями в колючую дорожную пыль.
– Auf, auf, auf die Fusse /Вставай, вставай, вставай на ноги/, – рыжий капрал цепко схватил короткими, поросшими волосами пальцами воротник гимнастерки Семёна и с усилием потянул его вверх. – Schneller, Du stinkendes Scwein /Быстрее, ты, вонючая свинья/. Gehe doch /Иди же, наконец/, – стальное дуло винтовки больно ударило в копчик.
Качаясь, Семён выпрямился и понял, что ему с трудом удаётся удерживать равновесие. Голова невыносимо болела, колокольный звон в ушах, казалось, не кончится никогда, колени дрожали так, что ноги постоянно подкашивались, грозя уронить ослабевшее тело обратно на землю.
«Только бы не упасть. Тогда смерть. Это немцы. Фашисты. Значит, я в плену», – с невероятным усилием Семён сделал один шаг, подтянул вторую ногу, и вот ещё шаг.
«Что со мной случилось? Должно быть оглушило взрывом. Верно, мы наехали на фугас или прилетела нежданная мина. А где Василий? Ведь мы вместе с ним ехали на мотоцикле. Он был за рулём. Неужели это он лежит в придорожном кювете с оторванной ногой? А где наш мотоцикл? Да вот он, но куда подевалась люлька, в которой я сидел? Неужели этот смятый бесформенный кусок металла – это она? О господи, кто бы унял эту изматывающую бесконечную боль во всем теле и этот надсадный жуткий шум в голове? Хотя бы на минуту, на две, но чтобы вновь почувствовать себя прежним здоровым человеком. Кстати, а почему у меня на одной ноге есть ботинок, а на другой нет? Куда он подевался? Кто его снял, неужто сорвало взрывом? И эта жажда, которая с каждой минутой становится всё более непереносимой. Воды, воды, хотя бы глоток спасительной жидкости».
Семён с трудом повернул голову и посмотрел на конвоиров. Он не знал немецкого.
– Воды, дайте воды, пожалуйста, – и указательным пальцем указал на свои распухшие потрескавшиеся губы. Конвоиры переглянулись, придержали шаг. Один из них в звании рядового достал пачку сигарет и оба с удовольствием закурили, не обращая внимания на странные жестикуляции этого случайно попавшегося им на пути русского солдата. Теперь майся с ним и тащись по этой пропечённой солнцем херсонской степи. А в батальоне, должно быть, уже обед выдают, и добродушный весельчак повар Циммерман с прибаутками разливает своим оловянным черпаком по мискам густой и наваристый гуляш с мясом. А потом, звучным завершающим аккордом, можно выпить чарку душистого вишневого рома.
Капрал Курт Зеехоффер чуть не поперхнулся от злости от одной этой мысли и сапогом пнул Семёна в зад, прикрытый сползшими и протертыми до белизны на худых ягодицах солдатскими штанами.
– Gehe schon, Du verdorbenes Stueckfleisch /Иди же, ты, прогнивший кусок мяса/.
Не удержавшись на ногах, Семён плашмя упал на проселочную дорогу, больно ударившись головой и распоров до крови щёку не к месту подвернувшимся камнем.
– Siehst Du, mein Lieber, mit welschem Dreck wir kaempfen sollen. Ich bin sicher in einem Monat werden wir Moskau erobern und dann kehren zurueck nach Heimat /Видишь, мой дорогой, с каким дерьмом нам приходится сражаться. Я уверен, что через месяц мы захватим Москву и сможем вернуться домой/, – самодовольно произнес рыжий немецкий капрал, с презрением оглядывая распростёршегося на земле красноармейца, явно недовольный тем, как тот медленно и безуспешно пытается подняться на ноги.
«Я должен встать, обязательно встать, – командовал сам себе Семён. – Я не доставлю удовольствия этому жирному борову долго издеваться над моей беспомощностью».
Южное августовское солнце стояло в самом зените и жарило немилосердно. Семён шёл медленно, в одном ботинке, волоча за собой раскрутившуюся обмотку. Босая нога временами соскальзывала в неглубокие выбоины, заполненные обжигающей, будто нарочно нагретой на жаровне пылью. Семён мучительно ощущал воздействие на себя этого пекла, которое прокалило его тело до самой макушки. Перед глазами опять поплыли разноцветные круги. Внутри возникло тошнотворное чувство, он вот-вот потеряет сознание, и тогда точно наступит его конец. В случае повторного падения конвоиры не будут больше церемониться и пристрелят, как немощного и ни для чего непригодного военнопленного. А пока что немецкие пехотинцы, разомлевшие на полуденном зное, уже не чертыхались и ни о чём толковом не думали, а, расстегнув воротнички кителей и закинув «Шмайссеры» за спину, шли, постоянно прикладываясь к флягам и поливая свои головы водой.
Наконец с пригорка стала открываться огромная, вытоптанная бесчисленными парами ног луговина, на которой почти впритык друг к другу, спина к спине, сидело и лежало множество людей. Тысячи и тысячи, а за ними ещё столько же. Некоторые из них предпочитали стоять или прохаживаться, стараясь не наступить на раскинувшиеся на земле человеческие тела. Это был временный лагерь для захваченных в последних сражениях солдат и офицеров Красной Армии. Эти люди из разгромленных советских частей, потерявшие своих командиров, уже не представляли никакой угрозы. Их воля к сопротивлению была сломлена, дух подавлен, теплилась лишь последняя надежда как-то выжить и попытаться дождаться освобождения. Эти мысли ещё как-то поддерживали их исчезающие силы. Немцы прекрасно понимали угнетённое состояние красноармейцев и особо не заботились о надлежащей охране места размещения своих военнопленных. Кое-где, правда, попадалась колючая проволока, наспех намотанная на корявые сучковатые палки, неглубоко воткнутые в сухую, растрескавшуюся за долгие летние месяцы херсонскую землю.