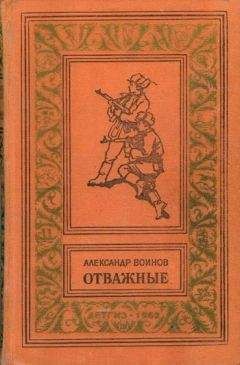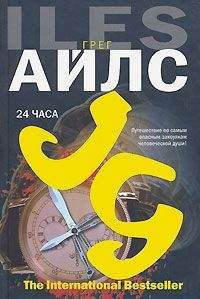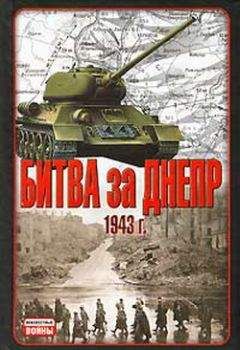Анатолий Заботин - В памяти и в сердце (Воспоминания фронтовика)
На станции, куда мы пригнали свои самоходки, я говорю Коле Хвостишкову: «Сейчас я еду домой, к матери. Возможно, сутки меня не будет. Остаешься тут за меня. Но о моем отсутствии никому ни слова! Если про меня спросят, скажешь: “Отлучился! Сейчас придет”. И следи за солдатами. Чтоб от своих машин ни на шаг. Ясно?»
Лейтенант Хвостишков мою просьбу выслушал с большой серьезностью, заверил, что в батарее все будет в порядке, и пожелал мне счастливого пути. Я пожал ему руку и заспешил к переправе через Оку. К счастью, перевозчика ждать не пришлось. Я сел в лодку и скоро был на правом берегу Оки. Поднялся на откос. До трассы Горький — Арзамас не шел, а словно бы на крыльях летел. Без конца подбадривал себя мыслью, что ничего худого не делаю: свидание с матерью перед отправкой на фронт. Что может быть естественней и благородней этого! Тут сам Господь мне поможет. И действительно, едва я вышел на трассу, как тут же увидел «газик», мчавшийся в сторону Арзамаса. Поднял руку. «Газик» остановился, и я словно волшебной силой был заброшен в его кузов. Проезжая большое село Богоявление, обратил внимание на церковь: она так похожа на храм, что в селе Тепелеве. Тепелево же в каких-то шести-восьми километрах от наших Ямных Березников. В прошлом, когда не было колхозов, в летние праздники в наших лугах на берегу речки Озерки собиралась молодежь со всех окрестных деревень. Тут была и тепелевская молодежь. Обычно приходили большой артелью и с гармонью. Шумно и весело проводили летние праздники... Все это мне вспомнилось, и я поспешил остановить машину. Слез и пошел, где дорогой, где напрямик. Вижу знакомые с детства места, крутые увалы, спускающиеся к речке Озерке. Глаз не отвожу от того бугра, который скрывает мои Ямные Березники. Дойду до него, а там уж, можно считать, я дома: с детских лет бегал тут босиком... Поднимаюсь на бугор и вижу: на той стороне реки, где простираются наши луга, где когда-то до войны собиралась на гулянья молодежь, пестреют женские платья, белеют платки. Это колхозницы сошлись на сенокос. Может, и моя мама тут?..
И вот я на берегу, нас разделяет только речка. Слышу голоса с той стороны:
— Солдатик! Солдатик! Сюда! К нам иди!
Я машу им рукой. Кричу: «Сейчас, сейчас!» Оглядываюсь: где тут переход? Каждую весну его сносило половодьем, но мужики снова его ставили. А нынче нет. Нет мужиков, нет и мостика через Озерку. Пришлось раздеваться и вплавь преодолевать речку.
Наконец я подхожу к столпившимся бабам. Ох, как колотится сердце. Вижу своих односельчан. Они все улыбаются: узнали меня. Кричат: «Мария Григорьевна! Мария Григорьевна! Сынок твой пожаловал!»
Мать спешит, летит со всех ног. Я — навстречу ей. Мы обнялись, расцеловались. Мама от радости плачет. А время как раз обеденное, и все мы толпой поднимаемся по крутому взгорью. Там, за ним, откроется небольшой Сорочий дол с памятным вековым дубом, а далее покажутся и наши Ямные Березники... Иду рядом с мамой, слегка поддерживая ее руку. Бабы окружают нас, рассказывают о своей жизни, расспрашивают меня о войне. Вздыхают, охают. У некоторых на глазах — слезы. Видимо, я первый из моих земляков, ушедших на защиту Родины, столь неожиданно появился в родной деревне. Пришел не по ранению, а на побывку к матери... В гору подниматься тяжело, но никто не отстал, не остановился передохнуть. На вершину поднялись все вместе. Вместе вошли в Ямные Березники. Еще несколько сот метров, и вот он, наш старый большой деревянный дом. Хочется прибавить шагу, побежать, закричать от радости. Но мама идет своим обычным неторопливым шагом, и я невольно подлаживаюсь под него. На душе — торжество, праздник: я — дома, я достиг цели! Пусть пробуду тут недолго, всего несколько часов, но дома. Встречая 1942 год, я писал с фронта: «...приеду, мама, жди». И вот приехал, сдержал слово.
Мама не спускает с меня глаз. Я смотрю на нее и вижу, как она за эти годы изменилась. На лице прибавилось морщин, глаза потускнели. Не иначе как от слез. Четырех сыновей вырастила — и ни одного нет дома, все ушли воевать. От старшего, Александра, никаких вестей. Прислал одно письмо еще в августе 41-го года и с тех пор словно в воду канул. Младший, Михаил, погиб год назад в Орловско-Курской битве. Похоронен в городе Севске. Маме уже седьмой десяток, мало училась грамоте, но город, где навсегда остался ее младший сын, помнит. Сын Константин ранен и лежит в госпитале в далеком городе Сарапуле. Мне одному пока что удается радовать ее письмами. Удалось порадовать и неожиданной встречей. Сидим за столом, разговариваем. А в голове — одна мысль: война еще не закончилась и завтра я снова уеду. А мама опять останется одна.
Время летит неудержимо. С крыльца смотрю на наш чудесный лес, на ореховую рощу, любимую мной поляну. Вспоминаю лесные тропы, прогулки по ним. Сходить бы вот сейчас в этот лес, прогуляться по знакомым тропинкам. Но где там! Разве я могу хоть на минуту отойти от мамы... Вечером я опять на родном крыльце. Смотрю на деревню. Тишина, даже собак не слышно. Уставшие за день колхозницы спят. А бывало, об эту пору на улицах кипело веселье, гармонь порой не утихала до утра. Грустно мне было от всего, что я увидел в тот летний день, о чем вспомнил, о чем подумал...
Рано утром мне надо было уезжать. Мама знала об этом: я ей сказал накануне. Проснулся я около шести часов. «Проспал», — с тревогой подумал. Собирался встать гораздо раньше. Однако мама давно уже не спала, успела истопить печку и напечь мне в дорогу лепешек из белой муки. С невыразимой тоской смотрела, как я завтракаю, как затягиваю поясной ремень и готовлюсь надеть пилотку... Я подошел к ней:
— Ну что ж, мама, спасибо. Погостил, повидался. Пора ехать!
Ждал, что она заплачет. Нет, не заплакала. Сказала упавшим голосом:
— Раз пора, значит, надо ехать. Обо мне не беспокойся, поезжай.
Она повернулась лицом в красный угол, где на полочке стояли знакомые мне с раннего детства почерневшие от времени иконки и большое медное распятие, неторопливо, истово крестясь, зашептала молитвы. Я терпеливо ждал, не собираясь прерывать ее, убеждать, что это, мол, предрассудки и т. д. В голове, однако, была уже мысль о том, что надо торопиться. Поскорей в Горький, к своей батарее, к солдатам... Вот мама кончила молитву и потянулась к полке с иконами. Взяла распятие, приложилась к нему и меня попросила сделать то же самое. Она знала, что я никогда не был безбожником, в детстве любил ходить в церковь. Особенно в большие праздники: Рождество, Пасху, в Троицын и Духов день. Евангелие, нашу семейную реликвию, я еще в детские годы читал и берег. Но со временем все резко изменилось, я стал учиться в педагогическом училище. В нашей стране к тому времени отношение к религии круто изменилось: церковь нашу, как и другие, закрыли. Кресты с нее сняли, убранство растащили. А священника Василия Константиновича Знаменского посадили в тюрьму. Считалось чуть ли не подвигом поиздеваться над церковью, над верой. А вступиться за церковь, осудить богоборцев никто не решался, это было далеко небезопасным. И я, студент педагогического училища, тоже вынужден был помалкивать. Иначе меня тут же выперли бы из училища. Потом я стал комсомольцем, членом ВКП(б). С партийным билетом в кармане стоял я и сейчас, когда на глазах у меня мама просила Бога оборонить её сына, уберечь его от пуль и осколков, вернуть домой здоровым и невредимым. Сложные чувства боролись в моей душе. Партийная идеология несовместима с церковной. Но в памяти еще живы были те чувства, которые внушили мне в детстве. Пусть осенить себя крестным знамением я все еще не решался, но когда мать поднесла ко мне распятие, я не задумываясь поцеловал его, и мама осталась довольна мной: в столь ответственный час я не ослушался ее.
Обратно в Горький я пошел другой дорогой. Той, которую помнил с детства. Именно в те годы мама не раз мне говорила: «Вот вырастешь ты большой, призовут тебя в армию. А я пойду провожать тебя!» И я представлял себе, что провожать она пойдет как раз этой дорогой. Других тогда я еще не знал. Пыльная, с небольшим подъемом, она пролегла полем, где когда-то, еще до колхозов, были у наших мужиков полосы. И я по этой дороге ходил к отцу, приносил ему обед. На работу он уезжал рано. Мать приготовит ему еду, а я отнесу. И так случалось часто. И вот эта дорога, по которой я ходил в детстве босиком, снова ведет меня.
Иду я вместе с мамой. Иду и вспоминаю: «Призовут тебя в армию. А я пойду тебя провожать». Спросил у матери, помнит ли она эти слова. Оказалось, нет, забыла. Помолчав, сказала:
— По этой же дороге, сынок, тебе и вернуться домой!
Рад, что пожелание ее сбылось. В апреле 1945 года, направляясь с передовой в Ленинград учиться в Высшем танковом училище, я решил заехать домой. Война, по сути дела, уже закончилась. Для меня во всяком случае. И домой я шел вот по этой самой дороге. Но я слишком далеко забежал вперед.
* * *
Вдвоем с мамой мы прошли все наше поле. Миновали одинокий, как маяк в море, ясень, который все у нас в деревне называли Кустиком. От него дорога круто повернула вправо. На меже нашего поля и симбилейского мы остановились. Я попрощался с мамой и торопливо пошел тропой, спускавшейся в низину. Шел и оглядывался. Оглянусь, а мама стоит, смотрит в мою сторону. Грустно мне сделалось, жалко мать. Подумалось вдруг: «Не последняя ли это была встреча? Нет! Нет! — постарался я отогнать эту мысль. — Вернусь. Обязательно вернусь!»