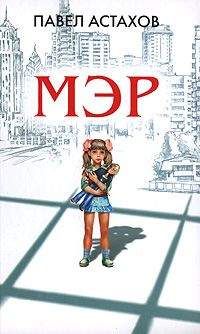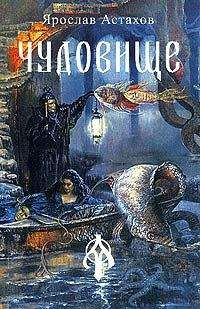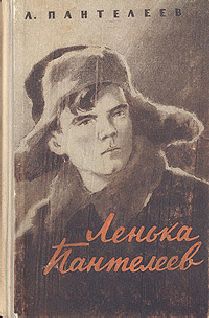Лёнька. Украденное детство - Астахов Павел Алексеевич
– Зондерфюрер Герц! Выдайте срочно еще одну веревку для нашего русского коллеги. И прикажите прикрепить ее рядом с этими… да покрепче! Это не дохлая баба или старик. – Повернувшись в другую сторону, он поймал взгляд ловкого палача-эсэсовца и скомандовал: – Взять этого мерзавца и вздернуть вместе с его дружками-соотечественниками. А то они его заждались. Подвиньте их поплотнее на лавке. Пусть дадут место своему товарищу. Все они то-ва-ри-щи.
Ничего не понимающего Витьку Горелого подхватили под руки два дюжих эсэсовца, заломили за спину локти и связали. Он кричал и вопил, пытался вырваться… но все его усилия были тщетны. Немецкая машина работала беспощадно и четко. Через минуту все было завершено. Выбитую из-под восьми пар ног лавку два солдата занесли в дом. Возле плахи выставили часового и оставшегося полицая Троценко. Эмигрант-агитатор Георг Берг принялся выспрашивать, кто хочет занять место казненного полицейского и убитого старосты. Люди в ужасе и в скорби пытались покинуть место расправы. Акулина, все так же прижимая Таньку, отвела ее в свое убежище и рассказала какую-то выдуманную историю о поездке в город на ярмарку. На месте казни остались только убитые и несколько родственников, пытавшихся выпросить тела своих казненных близких для погребения «по-человечески». Комендант Хоффман отправился пить кофе, связисты подключали вдоль улицы еще два деревенских ретранслятора, из которых теперь звучали немецкие марши и мелодии.
И никто из них не видел, как из-за плотно посаженных фруктовых деревьев и кустов малины за всеми передвижениями пристально следят четыре пары внимательных партизанских глаз. Боевой отряд «Красный Бездон» под командованием Прохора Гольтяпина прибыл в деревню слишком поздно. Все, включая полицая Горелого, были уже мертвы, а вступать в бой с дюжиной хорошо вооруженных немцев оказалось бы равно самоубийству как для маленького отряда, так и для оставшихся жителей.
Глава четырнадцатая
Отступление
Партизаны – это не армия, они действуют в особых условиях, во вражеском окружении при постоянном воздействии на них фашистской пропаганды и в отсутствие, нередко долгое время, истинной информации о положении на фронте и в советском тылу. В этих условиях некоторые отряды могут утратить ориентиры в перспективе борьбы и даже выродиться в обычные вооруженные банды [65].
– Что делать будем, командир? – Петька-боцман задал тот простой вопрос, который волновал всех партизан. Но ответ на него дать было чрезвычайно сложно.
– Что делать? Отходить надо, парни. Не сдюжим мы против немца. Вон они как загоношились. Даже Горелого вздернули. Хотя этому псу туда и дорога. Маловато нас, братцы. Переполошим всех, людей погубим, да и сами не уйдем. Мы им потом отомстим. Не забудем. Никто не уйдет!
– Да-а-а… прав ты, Прохор, нам уходить надо, – поддержал командира Петр.
Двое парней – Лёнька и Иван – молчали. Они были подавлены и напуганы увиденным. Показательная расправа над односельчанами, невинными мирными людьми, по ложному обвинению за то, что они не совершали, потрясла их и устрашила. Они впервые в своей недолгой жизни столкнулись с отчаянной роковой несправедливостью, которая произошла у них на глазах и уже никогда не могла опять обратиться справедливостью. Чудовищно жестоким прозвучал приговор. Необъяснимо легко восемь человек были вырваны из жизни и отправлены на смерть. Пугающе равнодушными оставались солдаты, лениво потевшие под жарким утренним солнцем. Невероятно быстро совершилась казнь. Но самым страшным для молодых ребят стали два слова: «навсегда» и «никогда»… Ни в девять, ни в двадцать лет невозможно осознать, что убийство, смерть, казнь останавливают чью-то жизнь НАВСЕГДА. Человек никогда не засмеется и не заплачет, не сможет обнять дорогих ему людей, потому что навсегда ушел от близких и родных. Еще немного, и даже останки его тела перестанут существовать…
Мальчишки молчали. Им хотелось изменить ход событий, вернуть всех убитых, включая старосту и даже полицая, остановить эту беспощадную войну на полное уничтожение… Но они были бессильны перед этой эпохальной трагедией, которая только начинала разворачиваться в самом центре планеты Земля и втягивала все больше и больше людей в свой бесконечный водоворот, взимая невиданную обильную смертельную дань. Им вдруг показалось, что набежавшая внезапно клубящаяся грозовая туча приняла очертания великана в черном капюшоне, с оскаленной улыбкой – как будто сама Смерть вступила в безграничные права, пытаясь утолить свой бездонный кровожадный аппетит, требуя все новых и новых людских жертв. Блеснула яркая вспышка, рассекшая небеса пополам, грохочущим раскатом сотряслась земля, залилась обильными слезами природа, оплакивая невинные жертвы…
Отряд молча и скрытно отходил в лес. Хлесткий ливень омывал их лица, лупил по спине, прибивал волосы и пытался добраться до сердец и души. Лёнька шел замыкающим и на самой опушке остановился:
– Товарищ командир! Дядя Прохор, можно мне остаться в деревне? Мне очень надо маму проведать. Я видел ее сегодня во время… ну, когда… – Он не мог выговорить эти пугающие названия «казнь», «повешение».
Командир все понял. Он посмотрел на промокшего под ливнем Лёньку, подошел к нему и прижал к себе:
– Не могу я тебя сейчас отпустить, Лёнька. Не могу. Слишком опасно стало в деревне. Дай времени чуток. Либо немцы успокоятся, либо мы силенок накопим и выбьем их из деревни. А пока нельзя никому из нас появляться там. Прошу тебя, Лёнька, пойми. Нельзя. Не сегодня.
Лёнька тяжело вздохнул. За последние дни он необыкновенно вырос в понимании того, что следует и чего не стоит делать в условиях смертельного противостояния. Умом он понимал, что в деревне сейчас опаснее, чем на фронте, но сердцем – рвался к маме. Он еще раз вздохнул и пошел вперед. Подчиняясь приказу и здравому смыслу, юный разведчик твердо решил все же увидеть мать, хотя бы ночью, и обязательно увести с собой в лес, в отряд.
Трое партизан стояли на тропе и пропустили парня вперед. Все понимали, как ему тяжко. Иван Бацуев решил его приободрить:
– Лёнь, я вон своих тоже не видел уже сколько. Они как к мамкиной сестре в район уехали, так и не вернулись. Не знаю, где и что с ними. Думаешь, мне не хочется повидаться?! Ишо как!
Лёнька обогнал всех, стал во главе отряда и, крутя головой, продолжал говорить с поспешавшими за ним мужиками:
– Нешто я не понимаю? Нешто я не разведчик? Буду терпеть, дядь… товарищ командир отряда. А когда пойду, Вань, ну когда можно будет, я твоих тоже разыщу. Заберем мамку, и твою, и мою, и Петюню, твоего братана, и сеструху Настену тоже в отряд. А чо? Места же всем в лесу хватит. Да? Дядь Петь?
– Конечно, Лёнька! Сегодня накроем овражек и там сложим лежанки из бревен и лапника. Командир, надо бы каких-нибудь тряпок натаскать из деревни, чтоб поуютней и помягче нары сварганить.
– Сделаем, Петро! Сделаем. Будем обживаться. Да людишек собирать, пока нас эти гады не выследили… Эй, ты чо?! – воскликнул неожиданно Прохор, шедший за Лёнькой и смотревший поверх его лохматой белобрысой головы вперед. Он чуть не налетел на парня, который внезапно остановился и пригнулся к самой тропе.
– Стой! Стойте все! – резко полушепотом выкрикнул мальчишка и поманил рукой командира: – Сюда, сюда, дядя Прохор… смотрите! – Он пригнулся еще ниже и, схватив за ворот наклонившегося к нему Гольтяпа, указал пальцем на тропу перед собой: – Глядите, видите?
Прохор вглядывался в примятую лесную зелень на едва приметной тропе, ведущей их к озеру и болоту, но никак не мог увидать то, что так насторожило парня.
– Что там? Кабаны?
– Не, не кабаны. Человек. Двое. Они прошли здесь до дождя и… вот, смотрите дальше, они вернулись. Как это я раньше не увидал их следы?
Лёнька продолжал какие-то загадочные пассы над тропой.
Присев на колени, командир наклонился еще ниже и вдруг заметил на маленьком пятачке черной земли, не заросшей травкой, четко видимый отпечаток, слегка размытый прошедшим дождем. В черный грунт впечаталось несколько прямоугольников явно не природного происхождения. Он проследил взглядом дальше и на следующей прогалине углядел похожий отпечаток.