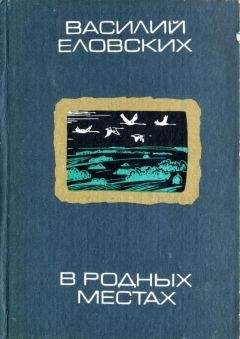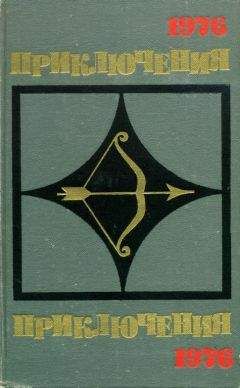Василий Еловских - Вьюжной ночью
В столовой, за ужином, капитан Угрюмов сказал мне, четко отделяя каждое слово:
— Вы ничего не замечаете за своим сержантом-печатником? Как его?..
— Рогов.
— Да, да!
— Ничего. А что?
— Понаблюдайте. Он с девушкой-бойцом… С Любовью любовь крутит. — В голосе капитана та же снисходительность.
— Ну!
«Ну» можно произнести по-разному. Мое «ну» выражало неудовольствие и нетерпение. Угрюмов насупился:
— Вы что нукаете, товарищ младший политрук? Я вам сообщаю то, что уже всем известно. А, между прочим, долг службы обязывает вас раньше других узнавать все о своих подчиненных. Тоже мне по-лит-работ-ник!
Он говорил резко, как всегда самодовольно приподняв голову, и было ясно, что ему нравится читать нотации. А я злился. Весь сегодняшний день у меня был нелегким: утром уехал в одну из эскадрилий, промерз в кузове полуторки, много работал, не обедал, обратно прошел пешком километров двадцать, проголодался как волк, а официантка принесла всего-навсего ложки три сухой перловой каши, поверх которой плавала микроскопическая лужица масла, и стакан чая. А тут еще этот самодовольный тип. До чего же у него длинный, неприятный нос, подумал я. Свисает над сердитой губой как козырек. Раньше я вроде бы не замечал его длинного носа. Тихонько, но с явно выраженным сарказмом я сказал, не глядя на капитана:
— Нет, черт возьми, все же досадно, что с каким-то сержантом…
— Что вы хотите сказать, товарищ младший политрук? — зашумел он, делая ударение на слове «младший».
«Ээ, была не была!» — вдруг подумал я с какой-то непонятной мне лихостью и, глядя в тарелку, сказал убежденно:
— Девочка, конечно, не дурненькая… — Я старался говорить словами Угрюмова и подражать его интонациям. — Пухленькая. Свеженькая. Мда!
— Что вы паясничаете?
— Нет, женщина все же должна тянуться к сильной личности. А не к жалким рахитикам. Разве вы не согласны с этим?
— Что вы пле-те-те?! Что вы ломаетесь? — Он почти кричал. — Дисциплины армейской не знаешь? Хор-рош!
— Да, да, хороша. Что скажешь. Солдатка, а гордая. А гордые женщины так заманчивы. В них что-то такое, этакое… Конечно, она делает непростительную ошибку, оказывая предпочтение младшему командиру… Ну, что сержант!..
Я всеми силами старался показать, что знаю его отношение к Любе. Но Угрюмов делал вид, будто не понимает меня. И все грубо поучал, наставлял…
— Я лично тоже обожаю гордых, — продолжал я. — А у этой еще фигурка какая! Мм! Не девочка, а конфета. И как она там с сержантом Роговым? Даже перловка в рот не лезет, черт возьми, как подумаешь об этом.
— Ты что?!!
— Но ведь это у меня не лезет, а не у вас, товарищ капитан.
На нас стали оглядываться.
— И голос у нее чудненький. Этакий нутряной. Ласковый. Многообещающий…
— Замолчи! Я приказываю замолчать! Сколько лет в армии?
Это непростой вопрос: некоторые старые вояки любили задавать его военнослужащим-новичкам, стараясь показать тем самым, что новички еще недостаточно опытны, не все понимают. И их надо учить да учить.
Капитан наливался злостью. Но мне его было не жаль. Он не жалел других, что было жалеть его! Человек я в армии временный — пока война… Мне все равно. Будь что будет.
— Мне не к лицу и не по летам…
Пора, пора мне быть умней!
Но узнаю по всем приметам
Болезнь любви в душе моей…
Эти стихи вконец взбесили его. Он уперся в меня глазами и, признаюсь, мне стало вроде бы не по себе: на меня повеяло холодом, чем-то даже жестоким.
2Когда мы в спешном порядке готовили очередной номер нашей маленькой газетки (впрочем, мы всегда почему-то спешили), ко мне прибежал посыльный.
— Товарищ младший политрук, вас вызывает батальонный комиссар Дубов. — Боец едва заметно ехидненько улыбался и смотрел, так, будто хотел сказать: «А я что-то знаю. Знаю, а вот не скажу».
У посыльных особый нюх, они без ошибки определяют настроение начальства. Но надо сказать, что и мы, командиры и политработники, глядя на посыльных, тоже частенько без ошибок определяли, что нас ожидает. В этот раз готовилось что-то недоброе. Батальонный комиссар Дубов работал начальником политотдела дивизии; уже пожилой, толстяк и добряк, скрывавший свою доброту за внешней показной суровостью, которая сбивала с толку новичков, настораживая их и пугая.
Я доложил Дубову: «…по вашему приказанию прибыл». Батальонный комиссар коротко, холодновато взглянул на меня и долго рылся в ящике стола, что-то перебирая там: это была верная примета, что старик сердится. С силой задвинул ящик и сказал:
— Садитесь. Ваш печатник…
— Рогов.
— Вот, вот!.. Этот самый Рогов… Этот самый Рогов связался с девушкой-бойцом…
— Логиновой.
— Вот, вот! У вас великолепная осведомленность, слушайте. Тогда становится непонятным ваше пассивное, так сказать, отношение к этому делу. Может быть, вы объясните.
«Угрюмов поработал. Его следы».
Я стал намекать Дубову об этом, осторожненько, туманными фразами, но получилось длинно, сумбурно, неясно.
— Что-то я вас не пойму. Кто-то на кого-то наговаривает. Какие-то странные намеки на капитана Угрюмова. Собственно, в чем вы его обвиняете?
— Вы пользуетесь сведениями капитана Угрюмова, товарищ батальонный комиссар, — сказал я напрямик и посмотрел на Дубова, стараясь определить, как это на него подействует. Вроде бы никак, не лицо — изваяние, ни один мускул не шевельнется, не дрогнет. — А он, капитан Угрюмов, по-моему, сам прихлестывает за этой девицей.
— У вас есть факты?
— Фактов у меня, положим, кот наплакал. Но!..
— Вот то-то что «но». И потом, что это за выражение «кот наплакал»? Если нет фактов, то получается сплетня. Я, между прочим, имею сведения от трех человек. Хотя должен сказать, что действительно первым мне сообщил Угрюмов. Кстати, он мне доложил, что вы очень грубо разговаривали с ним вчера в начсоставской столовой. Он старший по званию, имейте это в виду. Подождите, прежде закончу я. Что у вас за привычка перебивать начальника? Одиннадцатого числа ваш Рогов почти до отбоя проходил с Логиновой по лесу. Ее утеряли во взводе, начали искать, и всякое такое. Несколько часов отлучки. Видал, куда повело?
— Что-то не верится, товарищ батальонный комиссар.
— Что не верится?
— Несколько часов… по лесу…
— Ну?!
— В холод такой. В шинелях. Да еще в темноте.
— Ээ! — сердито махнул он рукой и с усмешкой, почти как Угрюмов, поглядел на меня. — Вот что! Поговорите с ним, как положено. Объясните, что такое поведение недостойно советского воина. А то сперва прогулки, отлучки… Кстати, он отпрашивался у вас в тот день?
— Отпрашивался, товарищ батальонный комиссар. Только, конечно, не говорил, что с ней…
— Так он тебе и скажет. Прогулки, отлучки, а потом, понимаешь, беременность, «чепэ». В шестьсот двадцатом БАО два бойца-девушки забеременели. Только успели приехать и — все, готово. Неприятности. Пусть газету получше печатает. А то или бледная какая-то, или столько краски пустит, что в руки не возьмешь. — Голос батальонного комиссара снова стал резким. — Блуд разводите.
Признаюсь, Дубов сказал не «блуд», а словечко покрепче.
— Я-то тут при чем?
— Твой красноармеец.
Надо сказать, что на первых порах за девушками-бойцами у нас был присмотр построже, чем у любой дотошной мамаши. Правда, только на первых порах…
Рогова в типографии не было, он участвовал в лыжных гонках. Пришел уже под вечер, злой, с повязкой на лбу и на вопросы наборщиков отмахнулся:
— Да так… ничего. Бузгнулся маленько. Да ничего, говорю. А что соревнования… Соревнования как соревнования. Лыжи всем дали хорошие. И шли нормально. Особенно старшина один. Ну, это настоящий мастер. Забыл его фамилию. А я пятым шел. За Шагиным. И сволочь же он, этот Шагин, я вам скажу. Седни я это окончательно понял. Там есть одна сопка высокая. И когда мы поднялись, я ходу прибавил. А спуск крутой и изгибается как дуга. Я решил Шагина обогнать и свернул с лыжни. А скорость прямо бешеная. В общем, сглупил я, зацепился за что-то и полетел. Прямо на куст. На сучья. Вот гадство! Сгоряча-то ниче вроде и не почувствовал. А так… удар только. Но вижу — кровь хлещет. Хотел подняться, да шиш. Боль в ноге, ну прямо дикая. Нет мочи терпеть. А Шагин обернулся и усмехнулся, сволота. Был бы человеком, а не свиньей, так помог бы. Ах ты, паразит, думаю! Палкой бы тебя по кумполу угостить. Ну, тут ребята подбежали… Он же блатной, Шагин этот. А такие помогают только своим. И потом еще из-за Любки он…
Андрея Рогова я позвал к себе в кабинет и сказал, как мог, сурово:
— Вот что, парень. Гулять — гуляй, но чтоб никаких следов не оставалось. Понял?
Это было не совсем по инструкции, данной начальником политотдела, и вообще не по правилам, но мне казалось, что так будет лучше.