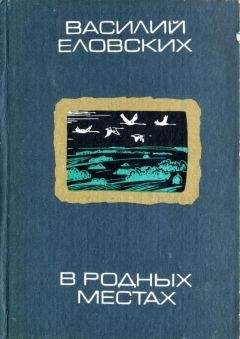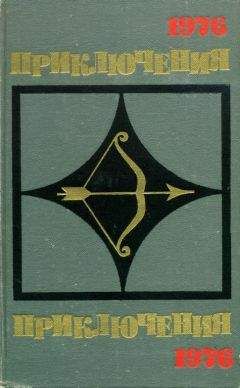Василий Еловских - Вьюжной ночью
Записка лежала на столе, а часы исчезли.
Подозревали Рогова. Горячие головы предлагали поступить круто: вызвать сержанта и сказать: выкладывай часы, или будет худо. Но Звягинцев наотрез отказался: «Невероятно, чтоб он… Починил и — в карман. Спрошу, но осторожно…»
Звягинцев судил да гадал, как ему быть, а Рогова в Антропово уже не было, он уехал в город с серьезным заданием: надо было получить на армейском складе новую «американку», которую нам, после долгих просьб, наконец-то дали, отгрузить ее, на конечной железнодорожной станции разгрузить и подождать автомашину. Возвратившись из командировки, он, конечно же, узнал об этой истории, бегал к майору, о чем-то долго говорил с ним и как-то сразу сник, осунулся, помрачнел, хотя вроде бы никто ни в чем не обвинял его.
Я был убежден, что Рогов не виновен и что тут что-то не чисто. А почему убежден — не смог бы сказать. Такое бывало со мной; убежден, а доказательств нет, они приходят позднее.
Весной злополучные часы нашлись, их обнаружили на дне неглубокого колодца, заваленного щепками и забитого сверху тремя досками. Колодец этот крестьяне забросили еще в двадцатых годах — перестала поступать вода. Наши интенданты решили углубить его. Рассказывали, что майор Звягинцев, которому красноармейцы принесли часы, недоуменно и комично, как мог делать только он, пожал плечами.
— Ну и чу-де-са!
— Подозрение было вроде бы на печатника Рогова, — сказал адъютант командира дивизии, все знающий, везде успевающий, не в меру бойкий младший лейтенант. — Наверное, он взял. А потом побоялся и бросил.
— Нельзя же так бездоказательно… — возразил я. Узнав о находке, я поспешил в штаб.
— Кто и зачем набросал в колодец щепок? — недоумевал Звягинцев.
— Это связисты, — разъяснил адъютант. — После того, как построили казарму. Не захотели увозить — и бух в колодец.
— Когда набросали?
Адъютант позвонил куда-то и доложил:
— Десятого мая. Ох и перетрусил старшина связистов, слушайте, даже голосок задрожал. Пакостливы, а трусливы.
— Стойте! — воскликнул я, обрадованный неожиданной догадкой. — Давайте разберемся. Часы исчезли четвертого мая вечером. Так? Так! Рогов пятого утром уехал в штаб армии за печатной машиной. Я помню точно, что пятого. Он уехал, совсем не зная, что его подозревают. Совещание в штабе закончилось уже после отбоя. А Рогов лег спать рано и часов в шесть утра уехал. Какая ему была необходимость сразу же бросать часы в колодец? Майор поддакнул:
— Вроде бы…
— Десятого мая в колодец набросали щепок, а тринадцатого Рогов приехал. Это я тоже помню. Я еще ругал его, что он долго проездил. А он сказал в шутку, что тринадцать — цифра нехорошая и лучше бы приехать двенадцатого.
— Да, конечно, он мог бы эти часы продать в городе или где-то по дороге, — сказал Звягинцев. — Мда! Рогов здесь ни при чем. Значит, хотели нагадить мне. Но зачем?..
Майор в эту минуту не походил на себя: как-то смешно съежился, вздрогнули губы, дернулась кожа под левым глазом и, думая о чем-то своем, он тихо произнес непонятную мне фразу:
— Да, бывает и так, что причина ненависти уже исчезает, а сама ненависть остается.
Звягинцев думал, что часы украли, а тут было что-то другое, и, как всякого простого и прямого человека, его раздражала эта непреодолимая неясность; ведь неясность иногда бывает более неприятна, чем даже гнетущая ясность.
Забегая вперед, скажу, что загадка с часами была все же разгадана, в конце года, когда Звягинцева уже не было в Антропово (его перевели в штаб армии). Виною был рядовой Шагин. Его отдали под трибунал: он выпил с кем-то из деревенских, поскандалил под пьяную лавочку и кого-то избил до полусмерти. Были у него и самовольные отлучки — Шагин оставался Шагиным. Не знаю, когда сказал Шагин, кому сказал, но сказал, похвастал, будучи под арестом, что именно он «утырил» и бросил часы, чтоб насолить сержанту Рогову. Об этом мне, как бы между прочим, сообщил капитан Угрюмов, который последнее время не трогал Рогова и Любу, заведя знакомство с одной веселой антроповской вдовушкой и вполне утешившись этим.
«А весна везде хороша», — подумал я, выйдя из штаба. Как легко дышится, черт возьми! Воздух тайги первозданно чист, влажен и пахнул почему-то свежей зеленью, хотя деревья и кусты еще девственно голы, а земля, только что освободившаяся от снега, нема и черна.
Меня окликнули. Это был Дубов, куда-то неторопко шагавший по грязной дороге.
— Когда напечатаете бланки?
— Сегодня к вечеру, товарищ батальонный комиссар.
— Чего тянете?
— Печатник болел.
— Что с ним?
— Грипповал.
Какое все же магическое слово «болел», оно одинаково сильно действует и на штатских, и на военных. Если даже маленько и приврешь.
— Дня через три приедет новый редактор.
— А кто?
— Старший политрук Максимов.
Дубов хотел еще что-то сказать, но замолк на полуслове, тяжело мыкнув, будто подавился чем-то. Впереди нас, этак метрах в трехстах, возле кустов, шагали в обнимку Рогов с Любой. Они были к нам спинами. У меня похолодело в груди. Собственно, чего было пугаться. Подумаешь!.. Но почему-то похолодело, тяжело, болезненно. Столько мелких неприятностей из-за одного человека. Он и захворал из-за ухажерки, подолгу выстаивая у «бабских» землянок, даже голос стал с хрипотцой. Видел вчера… Мимо типографии проходил женский взвод. Рогов выскочил на улицу и выкрикнул: «Ответь маме на письмо, она ждет». Лейтенант Грищенко злобно покосился на типографию. Когда Рогов вернулся, глаза у него были недовольные и влажные.
Эти люди были упрямы и жалки в своей любви, ни с кем и ни с чем не желая считаться.
Дубов, конечно, тоже увидел солдата в брюках и солдата в юбке и понял, кто это. Его правая мохнатая бровь резко приподнялась и так же резко опустилась. Чтобы угодить Дубову, я сказал:
— И народец же!..
— Ну, ладно… — неопределенно проговорил батальонный комиссар. — Мне — в столовую. — Он повернул на узкую грязную тропинку, которая без конца кривляла и тянулась неизвестно куда. — Самый, брат, непонятный и тяжелый народ — это влюбленные… — И Дубов как-то странно, совсем не по-дубовски, игриво хихикнул.
Судьба часто преподносит нам всякого рода неожиданности. В конце сорок второго в авиадивизиях ликвидировали газеты, я еще сколько-то служил на Дальнем Востоке (уже в другой дивизии), потом прошел офицерскую переподготовку, стал строевиком, уехал на фронт и в этом коловороте совсем забыл об Андрее Рогове, о Любе и вообще обо всех антроповцах. Через много лет один из бывших армейцев, с которым я изредка переписывался, сообщил мне, как бы между прочим, что Рогов («Ну, тот самый — помнишь?») живет в Свердловске, работает на заводе бригадиром. Будучи в знакомом городе проездом (я тоже уралец), зашел к Роговым.
В дверях стояла немолодая, но еще стройная женщина и вопросительно смотрела на меня темными красивыми глазами. Когда я назвал себя, она как-то по-особому — коротко и печально — улыбнулась, и чем-то далеким-далеким, волнующе знакомым повеяло на меня.
— Не узнаете? Любовь Гавриловна Рогова. В девичестве звалася Логиновой. Вас я тоже бы не узнала. Вы совсем, совсем другой. Проходите, пожалуйста. Как вас сейчас называть, не знаю. Не буду же говорить: товарищ младший политрук. А по фамилии тоже как-то неудобно.
Широкий коридор, застеленный хорошим ковром, дорогое трюмо. Через открытые двери виднелась богатая обстановка комнат. Снимая пальто, я спросил:
— А где Андрей?
Она недоуменно посмотрела на меня:
— А вы что… не знаете? Он же умер. Еще в позапрошлом году. Двадцать восьмого сентября.
Она вздохнула, помолчала и добавила уже другим — каким-то усталым, тяжелым голосом:
— Умер Андрюша.
Я попросил ее рассказать, как это случилось.
— От инфаркта миокарда. Не знаю даже, с чего начать. В общем… после войны мы с ним как-то плохо жили. Я имею в виду материальную сторону. Ну, комнатушки в частных домах. Да еще за городом. У него шинелишка старая, а у меня полушубок рваный. В общем, хуже некуда. Я переживала. Я такая… по всякому поводу переживаю. А ему вроде бы все хорошо, все ладно. Лишь бы я была рядом. Ну, потом он стал бригадиром. Дали нам сперва однокомнатную квартиру. А лет через пять трехкомнатную. И уж вот тут мы зажили. Жить бы да радоваться, а у меня опять со здоровьем стало не ладно. То болит, другое болит. Все ничего вроде бы, и вдруг температура подскакивает. И так слабею, что сидеть не могу. В больнице лежала. И ребятишки все чего-то хворали. А у нас их трое. Андрюша и говорит: поедем, слушай, в Москву. Там платные поликлиники есть, где знаменитые профессора принимают. Ну, что ж, говорю, давай. А он до этого вместе с заводскими на уборку картошки в колхоз ездил. И, видно, перенапрягся. Что-то там, в общем, произошло. А он был такой… Никогда, бывало, не стонал, не жаловался. Сходил к врачу. Выписали ему лекарств. Я и говорю: «Слушай, давай позже когда-нибудь слетаем». — «Нет, полетим!» Я взяла билеты на самолет. И полетели мы. И в самолете вижу: что-то не то с ним. Хотя хочет показать, будто все нормально. А когда приземлились — тут уж вовсе… Едва стоит. И с аэропорта его увезли прямо в больницу. Там он и помер. Знаете, я до сих пор чувствую себя виноватой. Хотя вроде бы от чего виноватая-то? Конечно, надо бы отговорить его и не лететь бы. Не полети — и, наверное, жил бы.