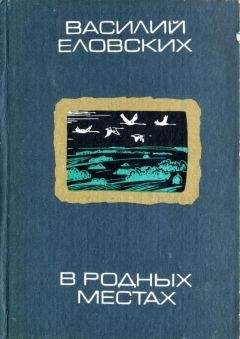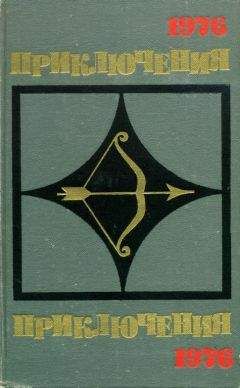Василий Еловских - Вьюжной ночью
— А я обмораживал. Ух и ныли!
— И потом… В деревне все же много физической работы. Это тоже сказывается… Ты опять выпил, — сказала она уже недовольным голосом, углядев на щеках Евгения болезненную красноту.
— Только стаканчик…
— Горе ты мое! Горе луковое.
Евгений как-то смешно поежился. Он не обидчив, не то что его родичи. С ним, в общем-то, легко.
— Ведь ты привыкнешь.
— Да я уже давно привык к тебе.
— Привыкнешь к вину. А потом попробуй отвыкнуть.
— Я?! Если я скажу себе «нет», значит — нет.
Петушок! В нем как-то странно сочетались смелость с малодушием, сила со слабостью. Дома не шибко-то считаются с ним, Мария Ивановна то и дело обрывает: «Да, много ты понимаешь. Молчал бы уж!»
— И все-таки ты рано уезжаешь. Ведь могла бы еще денька три-четыре пожить. Не любишь ты наших, я знаю. Я же вижу. А они о тебе, между прочим, отзываются совсем неплохо. Говорят, что ты работяга и чистоплотная… От других только и слышишь: «Она не стоит его», «Он не стоит ее». А мои такого не говорят.
— Я не могу у вас, — просто сказала она. — Мне тяжело. Конечно, можно как-то приспособиться, но не хочу.
— Да отчего тяжело-то?
«Странную роль предназначает он мне в своей семье. Или уж так слеп. Что вернее? И что страшнее?»
— Ну, давай поговорим со стариками. Чего уж!
— Надо снять где-то комнатку. Частную. Хотя бы за городом.
— Да ты что? Элла скоро переедет. Она все-таки хочет выйти замуж. За этого… Квартира у нас большая. И старики могут обидеться. Не пойдет.
— Ну, тогда давай поедем в Сибирь.
— Это значит навсегда распрощаться с Москвой. Попробуй-ка потом прописаться. Так тоже не пойдет.
— Боишься?
— Ты думаешь, в Сибири нам будет лучше? Ведь чем крупнее город, тем больше благ выпадает на долю человека. А у вас к тому же такой морозина… Брр! Люди мечтают о Москве. Нне пой-дет!
Смеется. Почему ему так весело? Что-то он не нравился ей сегодня: вихляется по-уличному, посвистывает. Ей хотелось говорить серьезно, обстоятельно, и шуточки мужа были хуже ругни.
— Ну, там увидим, как… Потом видно будет.
Но она чувствовала: ничего «потом» не будет.
Ждала, так долго ждала диплома. И вот он в руках, шершавый паршивец. Голова после бесконечной зубрежки, как в хмельном тумане, не голова — артельный котел. И до сознания вроде бы не доходит еще, что учеба закончена, что уже все, все!.. Но диплом в руках, и комендантша, ворчливая тетя Клаша, уже поторапливает: «Готовьтесь, девчонки. Давайте освобождайте общежитие».
Было грустное прощание. Обнимались. Целовались. Записывали адреса. И говорили, говорили, говорили. О чем только не говорили! В одной из комнат общежития гуляли Зина и две ее подружки — Нюра и Вера: на столе распочатая бутылка сухого вина. Только что проводили на вокзал четвертую подружку, миловидную и ласковую Любу, которая умчалась к своему мужу-лейтенанту в Закавказье.
— А все же повезло Любке, — сказала Вера, бойкая, беспокойная девушка. — Как-то уж очень быстро она подцепила этого лейтенанта. Кавказ все же. Тепло. И фруктов — завались.
— Да что уж!.. — неторопливо возразила Нюра. — Кавказ, Кавказ!.. Дался тебе этот Кавказ. Маленький гарнизонишка. Солдаты да офицеры. Ну еще жены офицерские. До города черт те сколько. И потом — лейтенант. Вызвал какой-нибудь там капитан или майор, и вытягивайся перед ним в струнку.
— Воинская дисциплина, что ж такого…
Обе они — и Вера, и Нюра — едут по распределению в сельские районы.
— Говорят, будто выпускники быстро забывают друг друга, — сказал Зина. — Сперва переписываются и даже встречаются, а потом… А мне вот не верится.
— Посмотрим… — неопределенно посмеивается Нюра. Чувствуется, что она, да и Вера, немножко завидуют Зине, считают ее счастливицей.
В комнату врывается горластая, принаряженная ватага выпускников, человек десять-пятнадцать, больше девушки. Под хмельком. Смотрят на всех и на все сияющими глазами. Зине тоже становится весело. И весело, и грустно. Почти все что-то говорят.
— А знаете, девочки, мне кажется, что я по-настоящему и не жила еще вовсе. А как-то по-детски жила. И думала: вот уж закончу институт…
— Ну, в Александровке тебе будет не лучше. Даже в образе педагога.
— Если бы в самой Александровке. А то затолкнут куда-нибудь. В этом районе — сплошь болота. Ты вот в Тартайск едешь. Город все-таки.
— Всех нас, конечно, переплюнула Зинка. Тихоня-тихоня, а…
— В таких-то все черти водятся.
Смешок. Добрый смешок. Эти девчата и парни приехали из деревень и, хотя за пять лет попривыкли к городу, не прочь были возвратиться и обратно, только бы в райцентр или в село, какое побольше да поблагоустроеннее. Но Москва!.. Пожалуй, никто не отказался бы пожить в Москве, да еще с таким красивым смелым мужем, в готовой квартирке. И опять в голосах двух-трех подружек Зина почувствовала легкую зависть. Нехорошая штука — зависть. Недаром от зависти сохнут. Зависть даже жизнь укорачивает, как говорят ученые.
Зина молчала. Что она могла сказать?
— А в Созоново начали новый универмаг строить. — Это проговорила Вера (она будет работать в Созоновском районе).
«Эх, Верка, Верка, наивная ты душа!»
Сама Зина безо всякого уехала бы в Созоново, а еще лучше в свое родное село (даже рада была бы), хотя понимала: сие почти невозможно теперь — завтра за ней прилетит Евгений. Сегодня ночью она опять слышала, как шевелится и легко ударяет в бок тот, кто теперь жил в ней и о ком она не переставала думать, улыбаясь и вздыхая.
СОЛДАТСКАЯ ЛЮБОВЬ
Все это было давно, так давно, что, кажется, вроде бы и не было вовсе, а просто в тяжелом сне привиделось… Вскоре после начала войны наша авиадивизия перебазировалась в тайгу, в глухомань. Оставлять самолеты на старом месте, недалеко от маньчжурской границы, было опасно: немцы научили нас осторожности. И непонятно было, кого это угораздило дать команду построить аэродромы у границы, среди голых сопок, где самолеты стояли у всех на виду, весело поблескивая, как бы ласкаясь (и не легкие истребители, а бомбардировщики)? Садили самолеты у дальних таежных деревень, прямо на колхозные поля и луга. Штаб дивизии расположился в Антропово, деревушке домиков в двадцать. За деревней тянулся кустарник: сплошная сетка из тонких веток — зимой и пышный, благоухающий, непролазный — летом. Говорят, поблизости от Антропово когда-то охотились на тигров. Наши армейские охотники не могли найти даже кабанов: зверей отпугивал грозный, недовольный гул моторов, начинающийся на рассвете и затихающий только к ночи.
…Когда я проснулся, будильник показывал без пятнадцати восемь; через оконце проникал стылый синеватый свет, чуть освещая убогую обстановку моего кабинета — старый обшарпанный письменный стол, стул и скособочившуюся солдатскую койку. Прислушался: тихо. Печатник сержант Андрей Рогов, видать, уже уплелся в столовую; он ночует рядом, в комнатке, за дощатой перегородкой, и всегда тяжело, с какой-то натугой храпит. Его храп мешает мне спать. Там же стоят койки красноармейцев-наборщиков. Наборщики отпросились вечером в деревню. Конечно, ночевать в теплой хате куда приятнее, чем в редакции, где холодище, как на улице.
Редакция и типография нашей дивизионной газеты размещались в длинном приземистом доме, который стоял на окраине Антропово. Он был срублен наскоро, везде огромные — руку просунешь — щели, отовсюду дует, тянет холодом. Мы замазали и затыкали тряпками щели, но тепла не прибавилось. Возле печатной машины «американки» стояла одна-единственная на весь большой домище железная печка, похожая на бочку с квадратной дырой посредине. Сама по себе печка-бочка еще ничего, все зло в трубе: у нее не было задвижки. Пока печка топится — еще терпимо вроде бы, можно погреться, но стоит ей прогореть — все тепло почти вмиг вытягивает на улицу. А задвижку не сделаешь: труба канализационная, из чугуна, с толстенными стенками (железную трубу здесь днем с огнем не сыщешь).
Наборщики мерзли и, не переставая, хныкали, — попробуй-ка поработай на холоде. И только Рогов молчал. Это главный герой рассказа и, разумеется, заслуживает того, чтобы я написал о нем поподробнее. Как и все обитатели нашего холодного дома, он был очень молод. Андрей с завидным терпением целыми днями настраивал не в меру грохочущую от старости «американку», которая из-за смены температур никак не хотела нормально печатать. Ночами Андрей без ропота ежился под холодным одеялом, а утрами наскоро умывался на улице снегом. В общем, был он сержант как сержант, только глаза какие-то жалостливые. Глаза эти не такому парню надо бы, а младой девице, живущей у батюшки да матушки тепло да сытно.
Я временно исполнял обязанности редактора дивизионки и был в звании младшего политрука. Мне только-только минуло двадцать три, и я, помнится, немножко петушился, гордясь своими двумя кубиками в петлицах и новенькой темно-синей авиационной шинелькой со звездочками на рукавах. Бывший редактор, старший политрук, человек не по-армейски изнеженный, не захотел жить в Антропово и перевелся куда-то в город, а нового редактора что-то не присылали.