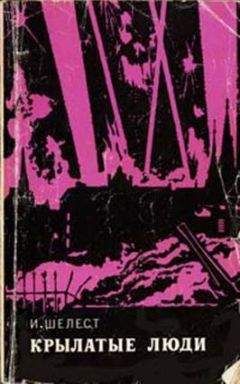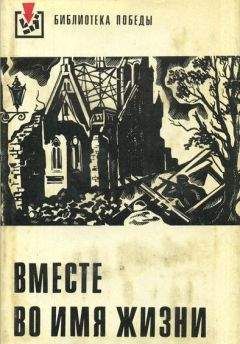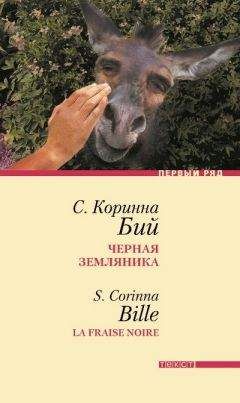Анатолий Хорунжий - Неоконченный полет
Но тем временем не только присутствие лейтенанта влияло на оживление жизни в отряде и изменения во взглядах многих хуторских партизан. Слухи о наступлении советских войск под Москвой и на юге, в районе Ростова, хотя и с великим опозданием, но дошли до Гутчанского леса. Люди, оторванные от Большой земли, не знали подробностей, размаха, результатов наступления. Их радовало то, что наша армия крепка и способна на что-то неожиданное и желанное, большое и грозное. Хорошая весть затрагивала прежде всего патриотические чувства и гражданскую совесть людей. Под влиянием этих чувств не один из очутившихся на оккупированной территории задумался над тем, правильно ли он жил здесь до сих пор, сделал ли он хоть что-нибудь для победы над врагом.
Так вот пробились к Гутчанскому лесу теплые вести, а с ними пришли и более веселые мысли, ко всему еще и весной повеяло — начали таять снега, небо расцвело голубизной, запахли проталины, запахло отмякшей корой. Всем начало казаться, что самая тяжелая, самая страшная военная зима уже миновала и что весной и летом должен произойти перелом в нашу пользу, что так, как было на фронтах до сих пор, дальше продолжаться не будет!
Теплые лучи солнца припекали спину, лицо, земля на проталинах исходила паром, в ручьях заискрились слепящие блестки, раздались первые голоса лесных птиц — и проснулись у людей воспоминания детства, радости весенних работ, свежие силы. Вместе с добрыми вестями, с призывами к действию, которые исходили от Дмитрия и Бондаря, вместе со звонкой лесной весной прибавлялись силы, расправлялись крылья. Ко многим хуторским партизанам пришли мысли о тех друзьях и товарищах, которые где-то на далеких фронтах ежедневно идут на смерть. И потянуло почти всех на просторы, к иному, более крепкому и сильному содружеству под водительством настоящего боевого вожака.
4Игнат Заяц просто не успевал доносить Куму о неспокойных разговорах в землянках.
Однажды вечером, в поздний час, он прибежал к командиру в таком виде, как гулял, — с балалайкой в руках, запыхавшийся, напуганный.
Кум как раз вернулся с обхода постов — сидел возле лампы в белой исподней рубашке, ел холодную свинину с хлебом и пришивал пуговицу к парусиновому плащу.
Побыстрее закрыв за собой дверь, Заяц прислушался, не следят ли за ним. Кум выпустил работу из рук, не вынув воткнутую иголку.
— В чем дело?
— Данила Иваныч, слышал своими ушами... не сойти мне с этого места... Бондарь и лейтенант задумали против вас какое-то паскудство.
У Кума Дернулось веко.
— Тебе что-то померещилось...
— Своими ушами слышал, Данила Иваныч. — Заяц бегал серыми выпученными глазами, словно остерегался удара по голове. — Сижу, значит, возле лошадей, бренчу, и еще хлопцы со мной. Вдруг вижу — кто-то шасть к Кузьмичу. Я наигрываю себе, подпеваю. Еще кто-то прокрался туда... А возле меня сидит Шевцов. Я бренчу, словно ничего не замечаю. И тут Шевцов поднялся, помялся малость, пошел, будто так себе, а потом шасть вслед за теми двумя. Думаю: «Пахнет выпивкой». Сергей, видимо, привез от своих. Положил я лошадям сена, обождал, пока люди разойдутся, и туда. Даже на ступеньки не спустился, а слышал все до единого слова.
— О чем же они говорили? — Плащ сполз с колен, упал на сапоги, Кум даже не пошевелился, не попытался поднять.
— Заярный ораторствовал. Соберем, говорит, коммунистов и комсомольцев, и пускай Кум, то есть вы, Данила Иваныч, даст отчет, почему мы коптим небо задаром. А Бондарь тут как крикнет: «И проведем свою резолюцию!»
— Резолюцию или революцию?
— Нет, резолюцию.
— Ну, дальше, дальше...
— А дальше кто-то тихонько говорит: «Надо снять Кума, то есть вас, Данила Иваныч, вас снять. Разве, говорит, мы не правомочные? Не позволим, говорит, партию за спину единоначальника ставить». Тут, кажется, подал голос Кузьмич. Он, он, потому что вдруг раскашлялся. «Собрание отряда, — говорит, — созывайте, пусть выходит на кош командир, а мы решим, что ему носить: булаву или половник. Мне в помощники, говорит, таких командиров...» Тут я услышал, как кто-то подходит к землянке. Спустился на одну ступеньку, прижался к стене, сердце готово выскочить, а он насвистывает, похаживает себе. Когда он удалился, я сразу же сюда, к вам. Так что они и сейчас там. Вот конспирация!
Кум вскочил. Смятый плащ кинул на плиту.
— Я ему покажу собрание!
— Они давно шушукаются, между собой... Только меня не подпускают.
— Не болтай попусту! Кто там был еще — не распознал?
Заяц заморгал глазами.
— Кто? Больше никого. Может, Сергей. Был, был Сергей, обязательно, только молчал.
— Марш к лошадям! Серый уже становится на ногу?
— Становится. Я еще скажу: вы не верьте, Данила Иваныч, что Карабабу они не взяли из военной хитрости. Это они вам наврали. Эта девушка, Оксана, я же ее знаю как облупленную, племянница Карабабы, а Сергей в нее влип. Вот и пожалели ее дяденьку. Погуляли на здоровье, условились, когда снова приехать, и айда обратно. А здесь доложили: «Новый разведчик, аэродром». Хитер Сергей, да не очень. Лошадь взял в артели и не отвел. Люди говорят: «Вернется домой — будем судить».
— Хватит... Письмо передал?
— Передал.
— Когда отнесет? Что говорит?
— С девушкой пошлет на этой неделе. Мельницу, говорит, чиню, ту, что мы спалили... Немцы наган к груди приставляли.
Кум торопливо одевался. Заяц чего-то ждал.
— Ужинал? — догадываясь, спросил Кум.
— Нет.
— Ужинай... Там, во фляге.
Заяц умело отвинтил флягу, налил кружку самогону, выпил одним духом и, прихватив кусок хлеба с салом, вышел.
Взяв в руки парабеллум в деревянной кобуре, Кум засомневался: брать его или нет? Вспомнив, что Заярный всегда держит при себе пистолет, перебросил через плечо легкий ремешок. Пальцы прыгали по пуговицам черной ситцевой косоворотки и не попадали в петельки.
«Я ему покажу собрание...» — шептал он сам себе. В возбуждении представлял, как тихо подойдет к землянке, неожиданно откроет дверь и спросит: «Ну, о чем советуетесь?» Затем позовет партизан и при них разоблачит заговорщиков. А завтра соберет весь отряд и выгонит Заярного как дезорганизатора. Да, выгонит!
Мысли его путались, подталкивали одна другую, возникали план за планом, намерение за намерением. Он припоминал все, чем занимался лейтенант в течение полуторамесячного пребывания в отряде, и почти в каждом его поступке находил что-то осуждающее, что теперь говорило против него. Но, удивительно, чем больше Кум думал о том, как ему следует поступить сейчас, как действовать, тем сильнее его охватывала неуверенность в своих силах. Он уже не верил, что доведет открытое столкновение до конца и выйдет из него победителем. Его пугали возможные осложнения, неожиданные повороты, которых он не мог предусмотреть. Ему бы сейчас посоветоваться с кем-нибудь, заручиться поддержкой и просто бы с кем-то появиться на этом подлом совете! Однако с кем же? Все, кто просиживает с ним вечера за рюмкой, кто кланяется перед ним, подхалимничает да нашептывает о ком-либо, смелы и решительны только с ним, один на один. В массе же, в большом остром разговоре они молчат, уклоняются... «Так что же, я. спущу насмешникам и нестойким людишкам? — вдруг спросил сам себя Кум. — Кому партия поручила отряд — мне или этим бродягам? Не выдержали в боях и прибились сюда, как щепки на волнах... Мне, мне, а не им! Они будут делать то, что захочу я, что прикажу я!»
Такой поворот в мыслях укрепил дух Кума. Нервно подергиваясь, с чувством оскорбления и гнева на душе он вышел во двор.
В темноте горело окошко землянки-кухни, что стояла чуть в стороне, и слепило глаза. Кум то и дело спотыкался о пни и кучи нерастаявшего снега. Это усилило его жалость к самому себе: «Так всегда отблагодарят те, кого поддержишь в трудный час, кого спасешь от гибели. Двух бойцов потеряли из-за него... Спотыкайся среди ночи... Отпустил усы и бороду и думает, что он герой и только он умный... А остался бы он в тылу, когда сюда ползла страшная орда? Кто знает. Теперь, когда мы у немцев отвоевали себе место, много вас найдется, охотников примазаться к чужой славе. Партизан — это тоже военное звание, и его, хлопцы, надо заслужить... Зря его не присваивают».
На двери землянки-кухни давно кто-то нацарапал гвоздем слово «кафе», но это название не привилось. Зачастую вместо слов «кухня», «столовая» говорили просто: «Пора к Кузьмичу». Биолог находился здесь денно и нощно. На железной печке, которая стояла у стены, он для всех готовил еду. Ели партизаны на двух столах, грубо сколоченных из досок. В одном из ящиков Кузьмич хранил дорогие ему находки — экземпляры редкостных растений, собранных в лесу на Сумщине, на этом же ящике он спал, подстилая под бока сено.
У Кузьмича нередко люди засиживались допоздна. Говорили, вспоминали, дискутировали до тех пор, пока не замечали, что, старик поглядывает на свою постель. Тут же ночевал на другом помосте Игнат Заяц: так повелось с первого дня, чтобы быть ему ближе к лошадям (он всегда ездил вместе с Кумом), так было и до сих пор. Сегодня к Кузьмичу по предварительной договоренности зашли коммунисты — Заярный и Шевцов, комсомольцы Бондарь и Сергей. Кума не пригласили. Дело в том, что Кум, тоже член партии, нигде и никогда не обращался к коммунистам и комсомольцам как к передовой части коллектива. Он сам никогда не говорил о своей принадлежности к партийки складывалось впечатление, что он не придавал этому никакого значения. Дмитрий понял это в первые недели своего пребывания в отряде. После того как он окончательно убедился, что Кум ни под влиянием разговора с ним и с Бондарем, ни под влиянием всего коллектива не собирается отказываться от своих взглядов на планы ближайшего времени, Дмитрий повел разговор с коммунистами о создании партийно-комсомольской группы, с чем все дружно согласились. Сегодня вечером, уже не очень-то скрываясь, собрались, чтобы поговорить о поведении коммуниста-командира перед тем, как объявить о существовании такой организации.