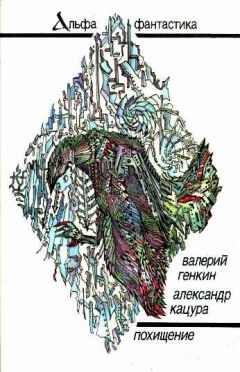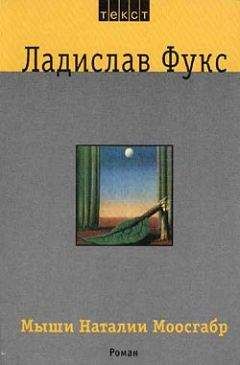Ладислав Мнячко - Смерть зовется Энгельхен
— Я не нужен вам, но вы мне нужны. Я не могу один жить в лесу, в любом же другом месте рано или поздно они схватят меня. А мне необходимо расплатиться с немцами сполна.
Все было логично, все было обстоятельно, слишком обстоятельно. Он — точно змея, никак его не поймаешь. Если он и подослан к нам, то в своем деле разбирается получше нас. Мы ничего не можем доказать ему. Только где-то в подсознании загораются красные сигналы тревоги. Внимание! Опасность!
— Если бы вы могли доказать хоть что-нибудь из того, что рассказали. Маху, хоть что-нибудь!
— Я могу доказать вам, что был в гестапо. У меня имеются убедительные доказательства.
Так. Ну, решил я, попался. Сейчас он достанет из кармана документы и скажет, что взял их у мертвого немца, — это будет сопроводительный листок, ордер на арест; вот сейчас он это сделает, документы будут, конечно, подлинные; ну, докажи, докажи, дьявол, что ты был в гестапо…
Он доказал. Но не так, как я полагал. И снова оставил меня ни с чем. Куда там — я сам поверил ему. Он сбросил куртку, потом осторожно стал снимать рубаху. Спина его была — один сплошной синяк, вся в открытых ранах — это было кровавое месиво, а не спина. Ноги были тоже изранены.
Потом показал пустые пеньки — коренные зубы были выбиты.
— Вам что, и зад показать и пятки?
Нет. Довольно. Я успокоился, только удостоверившись в том, что раны были подлинны.
— Хорошо, — заключил Николай. — Ты должен понять нас. Маху. В нашем положении осторожность не бывает излишней.
— Ясно. — Он странно взглянул на меня.
В его взгляде было превосходство, насмешка, пренебрежение.
— Я позволил бы себе посоветовать вам только одно. Не выдавать себя за власовцев. Поверить вам может только такой человек, который гестапо и в глаза не видал. Если бы и заслали к вам провокатора, так вам его не поймать.
— Почему?
— А гестаповцы готовы к тому, что вы расставляете провокаторам ловушки. И расположение власовских отрядов немцам известно.
И правда. Мне эти комедии никогда не нравились. Но в самом деле — или у меня не все в порядке, или… Мое недоверие к этому человеку возросло еще больше. Он знает больше, чем говорит. А ведь он сделал верный ход. Ну, а что бы сделал я в роли немецкого шпика? Вел бы себя точно так же. Ведь это игра со смертью. Я восстановил в памяти весь допрос. Все, что он говорил, могло быть правдой, но могло быть и ложью. Его ответы были настолько четки, настолько безупречны, тут и комар носа не подточит. Ну, а Николай? Неужели он поверил?
— У нас такой обычай, Маху: новичкам оружия не дают. Так что не удивляйся.
— А пистолет?
— Ты сдашь его. У нас право на пистолет присваивается командиром.
Значит, и у Николая нет полного доверия, значит, и он настороже, хотя, видно, этот Маху чем-то понравился ему. Если этот человек не шпик, он приобретет скоро влияние в отряде.
Мы остались одни с нашими тяжелыми мыслями. Трудно сказать что-нибудь. Трудно принять решение.
— Ты становишься жестоким, Володя, — вдруг хмуро проговорил Николай. — Прямо как Петер. Теряешь власть над собой, всюду тебе мерещится неладное. И меня вот заразил своим недоверием.
Ну нет, мне, что ли, одному брать на себя ответственность? Ведь командир — ты.
— Оба они шпики, Николай. Обоих послало к нам злинское гестапо. И то, что они так не похожи друг на друга, — это тоже прием. Они шпики.
— Доказательства! — крикнул Николай раздраженно.
— Дождешься и доказательств. Смотри только, как бы поздно не было…
Он молчал. Значит — сомневался. Не мог решить.
— Я сам застрелю их, Николай, один. Если после войны окажется, что это было убийство, пусть тогда меня судят, я сам явлюсь. Но не забывай, что в Злине — особый карательный отряд.
— Ни один чех не пойдет добровольно на такие муки из преданности немцам. Ну что могло заставить его?
— Откуда ты знаешь, что он чех?
— Ею напарник — Батя — чех. Того Фред знает.
— Это не значит, что и Маху чех.
— У тебя нервы, Володя, — сказал Николай, давая понять, что не хочет больше возвращаться к этому вопросу.
Неужели он прав? У меня нервы? Правда, что никакой чех не позволит гестаповцам так отделать себя только для того, чтобы вернее втереться в доверие к партизанам.
С какой бы стати стал он это делать? Война вот-вот кончится, немцы проиграли ее. Нет никакого смысла ставить на них. Может быть, и правда этот человек был в руках гестапо? Может быть, его избили и пригрозили, что не то еще будет. Они, может быть, грозили ему виселицей и обещали пощаду, если он наведет их на след партизан. Вряд ли, однако, такой вот даст немцам провести себя. Но могло случиться, что он и обещал сделать все, чего они ждут от него; даже если допустить это, не лучше ли ему было здесь, с нами? Разве в горах он не был бы в большей безопасности, чем если вернется к немцам, успешно выполнив свое задание? Такой, как он, трезво смотрит на вещи, он не может не рассудить, что здоровее для него.
Может быть, он согласился исполнить задание немцев. Может быть, он сказал себе: хорошо. Пообещаю им. Главное, уйти от них, в горах я переживу эти несколько недель. Хуже, чем у немцев, нигде не будет.
В таком случае он всеми силами старался бы скрыть от нас все. Или нет? Не честнее ли было бы, не легче ли прийти прямо к нам и сказать: «Ребята, я был в гестапо, меня послали искать вас, но я не дурак, чтобы возвращаться к ним. Это была единственная возможность спастись, вы не должны ставить мне это в вину, я ваш. Если вы не верите, испытайте меня». Но ведь это я так думаю, другие, возможно, смотрят на все по-другому.
А вдруг у Маху семья, вдруг он сильно любит мать, а немцы держат ее в тюрьме и обещали ему медленно уморить ее изощренными пытками, если он обманет их. А если не мать, а жену, возлюбленную? Если они показали ему, как они умеют мучить женщин? Из-за женщины можно пойти и на муки. Но не зашел ли я слишком далеко? Не начались ли у меня галлюцинации? Или это все нервы? И я несправедлив к честному человеку?
Но ведь на карту ставится так много. Нас более ста человек, это большая сила, но для того, чтобы оказать сопротивление немецкому карательному отряду, ее мало. И еще Плоштина, безопасность хуторян. Безопасность партизанских семей. Немцы доказали, что их угрозы не пустой звук. За преступления, даже не такие серьезные, как участие в партизанской войне, они вырезали целые семьи. Слишком много жизней висит на волоске. И не только о человеческих жизнях идет речь. Речь идет о нашей морали, о нашей воинской чести. Немцы вряд ли недооценивают нас, они научились уже принимать всерьез партизанскую войну. Они пустили на наш след одного из самых знаменитых охотников за людьми — Скорцени. Может быть, Маху и честный человек, возможно, правда все, что он говорит… Но если даже и так… Не было бы лучше… В любом случае это была бы всего лишь одна человеческая жизнь…
Я оборвал течение мысли. Нет, нет, так нельзя. Нельзя. Это страшные мысли, страшные подозрения, самые безнадежные выводы.
Но и для Николая вопрос не был еще решен. Он злился на меня как черт, но, по правде говоря, больше злился на себя.
— Привести его, — приказал он.
— Ты женат, Маху? — спросил он.
— Нет. Я же говорил, что нет. Одни дураки сейчас женятся.
— Ну, а девушка, девушка есть у тебя? — спросил я нетерпеливо, обрадованный, что и Николай пришел к тому же, что и я.
— Есть. Кто же я, по-вашему, чтобы и девушки не было?
— Есть у тебя ее фотография?
Фотография? Маху удивился. У него — фотография? Не школяр же он; нет, он против символов, он — за конкретные отношения.
— Кто такая твоя девушка? Где работает?
— В Злине. Она — секретарша в дирекции завода.
— Как звать ее?
— Лида. Лида Слунечкова.
Похоже, тут что-то кроется. Он больше не такой самоуверенный, как прежде. Он даже не знает, что нам нужно, чего мы добиваемся от него.
— А в гестапо тебя о ней не спрашивали?
Я понял, что допустил ошибку. С ним нельзя в открытую. В его глазах снова мелькнула насмешка. Что он скажет? Да? Нет?
— Спрашивали, — ответил он.
— А ты что?
— А я не на все вопросы отвечал. Я и вам не ответил бы, если бы не хотел. Но я вам все сказал.
Тут ему можно поверить. Он не ответил бы и под пыткой.
— Хорошо. Можешь идти.
Он ушел. Наступила долгая тягостная тишина. Нарушил ее Николай.
— Я запрещаю подозрительность в отряде! — зло выкрикнул он.
Тут и я сорвался.
— Ты сумасшедший! Сам лезешь в расставленные силки! Ведь он ведет игру, разве не ясно? Я уже кое-что видел в жизни, не маленький. Ты-то не был в когтях гестапо, тебе неизвестно, что это такое.
Мне показалось, он бросится на меня с кулаками. Но нет, он кричал больше на себя, чем на меня. Потом успокоился и продолжал с убитым видом:
— Подозрение, Володя, — это яд, который погубил и не такие объединения, как наш отряд.