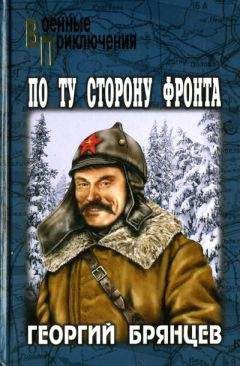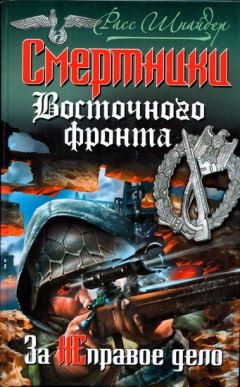Северина Шмаглевская - Невиновные в Нюрнберге
— Куда? — спросил шофер по-немецки.
— В «Гранд-отель», — распорядилась я кратко.
И не сразу поняла, что наш собеседник сменил тему. В этот момент он, обращаясь ко «всем» — неизвестно, кого он конкретно имел в виду, — призывал «всех» расстаться с проблемами нацизма, открыть новый счет.
Я сосредоточилась.
— Берусь доказать, что трагедия второй мировой войны была трагедией также и для многих немцев.
Мы молчали. Трагедия молодчиков, служивших в карательных батальонах… Я слышала, что в вермахте бывали случаи самоубийства — наша подпольная служба информации старалась сообщать о каждом таком происшествии. Но я ничего не сказала, и Ганс Липман продолжал воодушевленно рассуждать вслух.
В ярко освещенном холле я попрощалась с репортером, оборвав его на полуслове. Вместе с молчавшей Соланж мы шли к лестнице, а сзади все еще слышался возбужденный голос.
— О, тут, как прежде, комфортабельно. Столько света, столько народа. Не правда ли? — Он никак не мог остановиться.
— Jawohl! — сразу откликнулся обрадованный портье. — У нас новые люстры, новые дорожки, новые гости со всего света. Мы быстро приходим в норму. Все сверкает. Многолюдно. Каждый день новый оркестр. Как в старые добрые времена.
Мне показалось, что кто-то глухо вздохнул; может, это только доска застонала под ногой — в этом месте кончилась красная дорожка, и мы шли через разбомбленное крыло гостиницы, полное камней, кирпичей, цемента.
Я ещё раз оглянулась на ярко освещенный холл: портье и его собеседник мирно беседовали, оживленно жестикулируя. Вся гостиница была погружена в ночную тишину, громкие голоса мужчин, усиливаемые резонансом, гудели по лестницам и коридорам.
— А Герман Геринг во время торжественных партийных съездов всегда останавливался в «Гранд-отеле». И всегда в одних и тех же его любимых апартаментах. Номер двадцать три.
— Двадцать три! — задыхался от восторга репортер, вытаскивая блокнот.
— Какие времена были! — вздыхал, качая головой, портье. — А сейчас в этом номере Роберт Кемпнер, свежеиспеченный американец. Он эмигрировал из Германии во время войны, боясь попасть в гетто и газовую камеру. А теперь? Один из обвинителей на процессе! Член американской делегации. Да…
— Да…
Глухо постанывали доски, свистел ветер в строительных лесах.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Соланж прислонилась к стене, прикрыв глаза. Она нажала кнопку и вслушивалась в нарастающий шум лифта.
— До чего же я устала. В ванну — и спать. Хочется прямо не раздеваясь броситься в постель. Я просто умираю от жажды.
— Давай закажем в номер ананасовый сок, — предлагаю я.
В это же мгновение за моими плечами раздается смех. Знакомый голос и уже знакомая мне манера неожиданно оказываться рядом.
— Добрый вечер! Кого я вижу?! Я сочту за честь угостить вас самым восхитительным напитком. И кроме того, — тут он обратился непосредственно ко мне, — у меня есть новости. Представьте себе, у немца, которого рядовой Нерыхло встретил на вокзале, действительно что-то не в порядке с пальцами.
Соланж протянула руку к кнопке, хотя дверцы лифта еще были открыты. Себастьян подкрутил усы, точно солист из оперы Монюшко «Слово чести», где актеры на протяжении всего представления только этим и занимаются, и прошептал:
— Прошу вас. Задержитесь на пять минут. Время совсем детское. Стоило пережить эту войну, чтобы собственными глазами полюбоваться на веселящийся Нюрнберг.
— О чем вы? — слегка улыбнувшись, спрашивает заинтригованная Соланж.
Я вижу, что галантные манеры Себастьяна забавляют ее и, может быть, даже доставляют ей удовольствие. Она ждала его объяснений.
— Мадам! Я восхищен вашей игрой. Мои ладони распухли от аплодисментов. Идемте. Вы не пожалеете. Уверяю вас — стоит посмотреть. Убежден, что вы не пожалеете.
В дверях кафе он снова галантно согнулся, пропустил нас вперед и последовал за нами.
— Ну вот! Теперь мы сможем понаблюдать, как просыпается «Гранд-отель», отдохнувший после ночного бала. Время действительно еще совсем детское. Расположимся поудобней и посмотрим.
Народу было немного. Десятка полтора возбужденных пар сидели за столиками возле освещенного круга на паркете. Бледноликий молодой человек позевывал за роялем. Он медленно расправил плечи, поднял голову, тщательно вытер пальцы мятым платком. Обнявшиеся пары вышли на середину круга в ожидании первых аккордов.
Пианист вскинул руки, вдохновенно замер, наконец ударил по клавишам. Он играл прелюдию Шопена. Танцоры мечтательно-сонно задвигались в такт музыке, а может, вовсе не слушая ее. Себастьян с презрением смотрел на это. Мне казалось, что он вот-вот зарычит, оскалив в злой усмешке сверкающие зубы.
— Вот вам! Я же говорил, что сюда стоит заглянуть.
Соланж сжала виски руками.
— Это не сон? Я, наверное, выпила лишнего после концерта?
Себастьян наклонился к ней, ласково прикоснулся к руке.
— Нам всем снится сон. Мы надеялись, что после войны начнется жизнь, а вместо этого начался странный сон. Эти призраки на паркете понятия не имеют, что такое Шопен, что такое война. Они бы танцевали и под «Реквием» Моцарта. Уверяю вас!
Передо мной, возникая из тени, выплывая из другого зала, ритмично покачиваясь, проплывали убаюканные музыкой пары.
— Они танцуют под музыку Шопена? — с недоверием переспрашивала Соланж, вслушиваясь в шум скользящих ног, заглушающих мелодию.
— Эту прелюдию играют на похоронах, — сказала я.
На освещенное место выскочил вдруг парень в американской военной форме. Длинный, худой, с непомерно тяжелой челюстью, чем-то похожий на рогатого тура, которого на рождество ряженые носят на палке, подняв высоко над головой. Хлопнув дважды в ладони, он заскользил в угол зала, где за столиком сидели три не занятых в танце девушки. И, не доходя до них, сунув палец в рот, пронзительно свистнул. Девицы, не скрывая своего восхищения, вопросительно смотрели на него. Парень ткнул пальцем в свою избранницу и жестом показал: пусть поторопится, если хочет с ним потанцевать. Маленькая брюнетка радостно выпорхнула из угла и со всех ног полетела к солдату, бросилась в его объятия. Под «Траурный марш» Шопена они, покачиваясь, двигались к заколдованному освещенному пятачку, где буйствовали пляшущие пары.
— Стоило пережить войну, чтобы поглядеть на это, — повторил Себастьян. — Этот доблестный американский вояка — поляк. Джо Войтасик.
— Американский парень на отдыхе в Европе, — сказала Соланж. — А может быть, он герой, которому мы обязаны жизнью.
— По-польски он не может правильно произнести и пяти слов. Я проверял, — добавил Себастьян. — Зато его танец — воплощение патриотизма. Смотрите, он танцует «куявяк» под полонез Шопена. А почему бы и нет? Теперь на свете все можно.
Пианист печально опустил голову, оборвав игру на половине музыкальной фразы; публика зааплодировала, раздались возгласы, кто-то свистнул. Виртуоз покорно положил руки на клавиши, и снова зазвучал, спотыкаясь, путаясь, замирая, напряженный полонез Шопена.
Посмотрев на часы, я убежденно сказала:
— «Гранд-отель» наконец оправился после вчерашнего бала. Мне говорили, что это был исключительный день, гуляли до рассвета служащие Трибунала.
Себастьян Вежбица рассмеялся, откинув голову назад. Но потом на его лице появилась саркастическая улыбка.
— Да, в этом смысле вы можете быть абсолютно спокойны, только вчера и только в порядке исключения здесь происходил этот гон и токованье. А в будни все думают лишь о сожженной Варшаве, о годах гитлеровской оккупации, о детях, погибших в газовых камерах, о преступных медицинских экспериментах, которые немецкие врачи проделывали на живых, здоровых, молодых людях. Веселятся работники Трибунала только по выходным!
Меня больно резанула горечь, звучащая в его словах. Он медленно потягивал коктейль, не переставая усмехаться, а потом, перекрывая шум, громко произнес:
— Именно так должна быть организована работа каждого трибунала, который судит военных преступников. Нюрнберг станет неподражаемым примером для будущего. Изучению документов о геноциде должен сопутствовать и дополнять его именно такой рациональный отдых.
Я снова промолчала. Соланж была напряжена, словно чего-то ждала. Себастьян отодвинулся от столика вместе со стулом, пригладил ладонью усы. На этот раз он обратился ко мне:
— Вот так! Учись, детка! А завтра встань отважно на трибуну для свидетелей и говори! Забудь о дансинге «Гранд-отеля», разбуди гаснущее внимание судей, обвинителей, защитников и подсудимых тоже! Убеди журналистов всего мира, что тут рассматриваются дела, которые будут важны и для их внуков! Тебя позвали, чтобы ты рассказала правду, одну только правду и ничего, кроме правды; а это так просто — ты видела, так расскажи же. Расскажи так, чтобы твои слова дошли и до сонного после танцев Джо Войтасика, который с трудом понимает по-польски, и до всех остальных, здоровых и сильных, которые прожили войну далеко отсюда и теперь изумляются, не верят нам, не смогут поверить и тебе, что, впрочем, естественно, ты сама понимаешь, как трудно во все это поверить. Нормальный человек имеет полное право сомневаться в том, что так было. Схвати воздух руками, сожми ладони, скажи им, что там воздух всегда пах паленым.