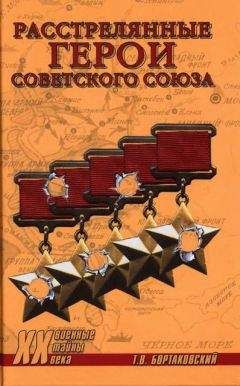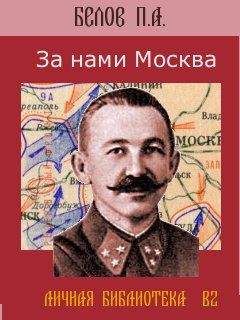Юрий Бондарев - Мгновения. Рассказы (сборник)
– Меня здесь обобрали, я так была возмущена, так взволнована, что пришла домой и… легла спать!
– Не покупайте, ни в коем случае! Здесь вы в лужу сядете и ботиком накроетесь!
– Ох и злая молодость была, ох и отрадная! Все б претерпела, только бы нарядиться и погулять! А теперь и жакетик продаю… Молодость прошла, и жизнь я прожила!
– Вы, девушка, не особенно… Молодые люди умаслят, их не слушай. Вон как около вас улыбки строят!
– Держите, мамаша! Рублик вам возвертаю, должок мой…
– Рублик! Что уж это, мои матушки! Выбросила десять рублев мухе под хвост! А он – рублик, пес волосатый!
– Деньги на рынке как вода уходят.
– Невоз-мож-но! Тут такая толкучка, что даже стащить ничего нельзя!
– Смеетесь? Это как же нельзя?
– Каждое ваше движение контролируют несколько человек. Но рядом со мной стояла… мм… эдакая обольстительная женщина? Где она?
– Где сдача? Где сдача? Я за пять рублей кишки из носа потяну! А ну – сдачу!
– В лицо вам нахохочут, а не сдачу дадут. Жулик на жулике…
– Почем вишня?
– Три рубля.
– По рублю. Дорого, бабуся.
– Объешьси. Много купишь и объешьси.
– Ха-ха! Его подняли на смех и бросили на землю. Покончил жизнь самоубийством, объевшись вишни. Убит, бабуся!
– А вы не в курсе – кур проверяют на базаре? А то, может, она дохлую зажарила – и продает? А?
– Шоб мне до дому не дойти, если брешу! Шоб я дитятко свое не бачила!
– Синяя она у вас какая-то. Голенастая.
– Шо вы крутите, як оглоблей? Яка така голенастая?
– Так вот что у нее получилось… А этот самый подлец трех жен имеет, старшая график составляет, чтобы, значит, у которой лишний день не перегулял. Ну что за нравы! Как мне надоело вникать в чужие переживания, Господи! Кому мне рассказать о своих, дорогая моя?
– Нич-чего! Прокобелирует – и вернется, кобель глазастый, никуда не денется!
– Знаете, есть такие люди: их в дверь – вон, а они в форточку лезут. Представляете такого мужа? Мой – похож.
– Все мужчины бесчувственны, да! Бесчувственные эгоисты!
– А женщины, извиняюсь, коварны, коварны! О, как еще коварны! И мстительны! Извиняюсь, я влез в ваш разговор, но я заявляю, феминизм – это невыносимо во всех отношениях, пож-жар в аду!
– Да, что вы, гражданин? Мы вас не просили со своими нотациями…
– Извиняюсь, я курицу покупаю. Вот эту голенастую.
Катя
На даче пятилетняя Катя, потрясенная, гордая собой, высвободила полупридушенного чижа из лап котенка, после же в кустах смородины она с обмазанными соком щеками, горячо рассказывая мне о котенке, рассуждала так:
– И птица имеет защиту, и собака, только человека никто не может защитить! – И, подумав, добавила: – Вот лев разве…
Утром, войдя ко мне, она засмеялась:
– Я читала в журнале… об одном профессоре, очень смешно…
– В каком журнале? В «Мурзилке»?
– Нет, так, один журнал, не помню, как называется, дедушка его взял. В общем, журнал такой…
– И что же?
– Там профессора одного хвали-и-ли, хвалили, а потом, наоборот, стали хвалить.
– Как это «наоборот»?
– Он, правда, не ученый, а геолог. Грибы собирает.
– Геолог тоже может быть ученым. Только геолог не грибы собирает, а занимается полезными ископаемыми, которые находятся в земле.
– Я и говорю – полезные. Грибы собирает. Его хвали-и-ли, хвалили, а потом бухнули и так далее и так далее.
– Как это бухнули?
– Ну, не стали хвалить. В одном журнале читала. Смешно. Хвалили, хвалили, а потом бухнули, что плохой да плохой.
Она ушла, и я засмеялся. По-видимому, она слышала наши разговоры о превратности критики и придумала эту историю о геологе.
Мы гуляли с ней в парке, она попросила:
– Папа, купи ребеночка.
– У меня денег не хватит. Это очень дорого. Потом нужно в очереди долго стоять. У нас с мамой нет времени.
– Они где – в универмаге «Москва»? Они что – в колясочках лежат? Ах, какие хорошенькие, наверно!
Однако на следующий день решительно заявила:
– Я хочу с тобой честно поговорить. Они не покупаются, а рождаются.
– Катя, как звать врача, который тебя лечил?
– Тулгузы Керба-Кера… Бабаевич…
– Хороший он?
– Да. Только имя страшное.
– Почему?
– Очень забывательное.
– Папа, открой дверь громче!
– Наверное, ты хочешь сказать – шире?
– Ты непонимательно говоришь, папа.
– Ну хорошо-хорошо, я открыл дверь, пойдем.
– Папа, что ты около меня столпился? Как я могу идти? Что вы меня обтолпили? Ты и мама…
Сидел за столом над рукописью, правил, зачеркивал, вписывал, заменял слова – вся страница была изрисована.
Катя внимательно наблюдает за моей работой и осторожно грызет яблоко.
– Папа, что ты делаешь?
– Вычеркиваю слова.
– А хорошие?
– Вставляю.
– Значит, плохие слова бывают хорошими, а хорошие плохими? Да?
– Что-то в этом роде, пожалуй.
– А эти слова хорошие?
– Какие?
– Я тебе сейчас скажу. Вот. Слушай. «До, ре, ми, фа, соль, ля, си, едет кошка на такси, а за ней котятки, милые ребятки».
– Что это, стихи?
– Ага. А вот еще. Сережка из второго подъезда их любит. Вот слушай. «Едут новоселы, морды невеселы, кто-то у кого-то слямзил чемодан…»
– М-да, поэзия, знаешь ли…
– Мама сказала, что смешно. Только здесь «морды» и еще «слямзил» некрасивые слова. Давай напишем и вычеркнем.
– Вычеркнем? Ну, попробуем… Слово «морда» можно заменить… скажем, на лицо, на физиономию…
– Нет.
– Что «нет»?
– Ску-учно…
– Да, ты права. Не очень удачная замена. Есть, конечно, много грубоватых слов, которыми можно, но…
– А «слямзил»?
– Слямзил? Так-так… Давай вместе подумаем. Украл, утащил, своровал…
– Нет. Ску-учно. Вот еще – укра-ал…
– Да-да, ты права, пожалуй. Скучноватая замена! А что делать?
– Ты подумай, а я порисую. Можно?
И, говоря это, она взобралась ко мне на колени, устроилась за столом удобнее, касаясь теплыми волосами моего подбородка, и я, боясь пошевелиться, с умилением вдыхал их голубиный запах, слышал, как она легонько дышала, грызла яблоко, наклонила голову к листу бумаги, водя карандашом, и это были нечастые, переворачивающие душу минуты ее доверчивости, ее общения со мной.
Оставшись одна, с превеликой старательностью и ожиданием похвалы изрисовала новые обои, вызвав этим неудовольствие мамы, которая, увидев на стенах художества, воскликнула:
– Эт-то еще что такое!
– Это цветочки, – ответила Катя, скромно покусывая карандаш.
– А эт-то что такое?
– Это кошечка…
В час заката мы шли с ней по улице.
– Небо настоящее, оно не заканчивается, – рассказывала она. – На нем нет крыши, а то бы мы задохнулись. Оно легкое. Просто рукой можно потрогать – и там ничего нет. Это кажется, что оно красное. А под землей – корка. Потом черви, потом вода. А дождик, знаешь, как идет?
– Как?
– Понимаешь, тучи. А в них такие дырочки. Как сетка. Мелкие.
– Значит, как у лейки?
– Правильно. А снег, знаешь, как?
– Нет.
– Зимнее небо – старое. И дождик старый. Это – снежинки. Им тепло, и они тают. Вот и дождик.
Я долго думал об этом ее размышлении. Она внезапно спросила:
– Папа, как называется, что вешается, падает и гремит? В ванной… Я видела у Сережки, когда руки мыла. Очень сильно упало…
– Корыто?
– Да, правильно.
Отец, мать, бабушка и я
Я видел, как начинался рассвет. Ночь беззвучно и таинственно уходила, и тихая, весенняя заря зажгла мокрые травы, запахло росистой сыростью. Раскрылась радостная синева с тончайшим, задорно легким, зеленовато-алым лучом, протянутым в высоту. Далеко в степи, за ее краем парил в воздухе купол старой часовни, будто висел между небом и землей, и на бугре мимо часовни виляла проселочная дорога, по которой на телеге уезжали отец и мать. А я стоял на окраине поселка, еще помня колючий, мужской, подбадривающий поцелуй отца и мягкие, дрожащие губы матери, и видел, как уже издали, с телеги она смотрела в мою сторону с грустной улыбкой.
Куда они уезжали? И почему оставляли меня одного на попечение бабушки? Для чего отец взял с собой наган, сунул винтовку под сено возле себя, и мне вспомнился обрывок ночного разговора отца с матерью о какой-то появившейся из-за Урала банде, которая не щадит ни бывших «краснюков», ни новых «сельсоветчиков».
Передо мной везде зеленела еще не согретая солнцем степь, и там, где недавно текли в высоту алые лучи, плыли в чистой синеве прозрачные дымки облаков. И я, продрогнув на утренним холодке, один в степи, как бы навсегда отделенный от матери и отца, впервые ощутил сиротливую заброшенность какой-то силой на землю – кто я? Почему я здесь? И для чего эта роса, трава, совсем исстаившие облака в небе? И куда плывут эти облака? И зачем я, как завороженный, смотрю туда, в сторону часовенки: там, на дороге уже нет ни телеги, ни отца, ни матери. Увижу ли я их еще?
Я вспоминаю, как медленно шел по улочке к бабушкину дому, утопая в пыли босыми ногами. Вставшее солнце до слез слепило мне глаза, мелькало в листве тополей.