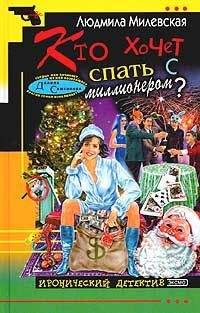Дмитрий Панов - Русские на снегу: судьба человека на фоне исторической метели
Краковский аэродром охраняла рота наших автоматчиков и нам, летчикам, настоятельно не рекомендовали выходить в город, где действуют бандеровцы и профашистские элементы. Думаю, что бандеровцев в Кракове не было, просто это название стало нарицательным для всех действующих против нас партизан. Скорее всего, речь шла об отрядах Армии Краевой, действующей от имени эмигрантского польского правительства, против наших ставленников — Берута и прочих. Польша окончательно отказывалась считать нас освободителями и особенно после того, как мы грубо полезли в ее внутренние дела. Пролей мы за них еще хоть океан крови, но: как бы они еще добрались до Германии — совершенно резонно рассуждали поляки. Ночью вокруг аэродрома началась бешеная стрельба, били автоматы и тяжелые пулеметы, рвались гранаты. Наутро рота охраны принесла трупы двух молодых поляков, участвовавших в ночном нападении на наш аэродром, где к тому времени скопилось около трехсот самолетов. Нашей авиации над краковским аэродромом было, что воронья. Всю ночь мы не спали. Под аккомпанемент стрельбы сидели одетыми в приаэродромной гостинице, приготовив оружие. К нам со Смоляковым в комнату на втором этаже поднялся перепуганный Гейба. Действительно, на первый этаж ворваться или забросить гранату было проще. Словом, в освобожденной нами Польше завязались непростые узлы, и мы взлетели с краковского аэродрома не без чувства облегчения. Дозаправившись на аэродроме возле Львова, мы взяли курс на Бельцы, где переночевали. Мы были дома, на территории Союза. Наш дом предстал нам в мрачном обличье: все разбито, разорено и никто ничем не занимается. Страна напоминала бегуна, бегущего уже давно из последних сил и просто рухнувшего на землю от безмерного напряжения. Казалось, все материальные и духовные силы народа исчерпаны на десятки лет вперед. Но нужно было жить дальше. Впрочем в Бельцах мы еще чувствовали себя в чем-то как за границей, а в то же время, привыкнув жить за границей, мы постепенно стали считать и заграничные страны своим домом. Понятия границ и суверенитетов были очень условными.
Расстояние от Бельц до Одессы составило 550 километров, почти полная заправка наших баков. Как нам сообщили, в районе Одессы гроза, и идет дождь. Мы переждали до обеда, когда нам передали, что погода улучшилась и решили лететь, в крайнем случае, «перепрыгнув» через грозовой фронт. Казалось бы, полет не предвещал никаких особых переживаний — не на бой же лететь, а в солнечную Одессу-маму, к себе домой. Когда мы со Смоляковым обсуждали план перелета полка, то отметив, что ребята как-то слишком расслабились, решили: Платон будет лидером, а я полечу сзади, замыкающим, чтобы посмотреть за техникой пилотажа, и на всякий случай. Вдруг кто-то пойдет на вынужденную посадку — где и как приземлился.
Но черт меня дернул связаться с авиационным теоретиком. Майор Мясков, редко летавший в бой, был дивизионным пилотом-инспектором по технике пилотирования. Мясков очень любил демонстрировать свои летные возможности, находясь на земле, и видимо, от безделья, решил организовать мой образцовый взлет. Труся впереди моего самолета и растопырив руки, он долго вел меня на взлетную полосу, направляя против ветра, в чем я совершенно не нуждался. Чтобы не порубить Мяскова винтом, я все время пользовался воздушным тормозом и потому, когда Мясков с видом человека, оказавшего мне серьезную услугу, дал старт, то выяснилось, что воздух из баллона почти весь вышел, отчего шасси убрались всего лишь наполовину. Положение — хуже не придумаешь: можно садиться на шасси, можно садиться на брюхо, но нельзя сесть на шасси, выпущенные наполовину, это верный каюк. К счастью, воздушный компрессор ОКА-50 оказался исправен и скоро создал воздушное давление в системе — шасси убрались. Но пока я мудохался из-за заботливого майора Мяскова, полк уже потерялся в мглистом небе. Я дал полный газ, и добрый мотор «ЯК-3», по-прежнему деревянного, так и не догнали мы за всю войну немцев, делавших алюминиевые «Мессершмитты», сотрясая корпус, разогнал мою машину почти до шестисот километров. Над Одессой я появился уже ближе к вечеру — наступала темнота. А здесь, как на грех, наш парень, садившийся последним, забыл выпустить шасси, и его самолет, севший на брюхо, занял середину посадочной полосы. Пока я крутился над аэродромом, выбирая место для посадки, горючее в баке почти закончилось. Да еще наши разгильдяи забыли привести в порядок Центральный Одесский Аэродром, заросший бурьяном почти в метр, и без всяких обозначений ни днем, ни ночью. Аэродром напоминал поле для выгона скота. Наверное, ребята из аэродромной службы местной воздушной армии, в основном, пили вино и ловили триппер у молдаванок. Когда я садился на землю, уже укрытую темнотой, то, естественно, принял верхушки зарослей бурьяна за посадочный уровень. И потому посадил самолет на три точки примерно на метр выше положенного. Машину сильнейшим образом и, совершенно неожиданно для меня, подбросило. Я с трудом досадил ее до взлетного-посадочного поля. Словом, мы были дома, где местные роздолбаи могли угробить любого из нас с не меньшей степенью вероятности, чем немецкие пилоты. Но если от тех, изучив за много лет манеры и замашки, мы хоть знали, чего ожидать, то свои оболдуи проявляли чудеса изобретательности, создавая аварийные ситуации там, где их не могла бы придумать самая воспаленная фантазия.
Конечно же, победителей-освободителей никто не встречал. Недаром говорят в армии: не спеши выполнять — отставят. Наш батальон аэродромного обслуживания моего знакомого Либермана тащился где-то по грязным дорогам, а местным властям было не до нас — Одессу захлестывала волна бандитизма. Полночи провалялись мы под плоскостями, где укрывались от моросящего дождя, как под Броварами в 1941-ом, а потом, наконец, молодые пилоты сходили в разведку и доложили, что неподалеку есть казармы, где имеется солома. Там мы и переночевали, конечно, набравшись вшей в беспризорных помещениях, стоявших без окон и дверей. Я пытался дозвониться в горком партии, попросить помощи, но с таким же успехом можно было звонить в рельсу, висящую возле казарм. Наконец дозвонились до военного коменданта города Одессы, который ленивым тыловым голосом сообщил, что никаких заявок на наш полк не поступало, и он ничего не знает. Прочее не его забота. Эх, Родина, дым твой сладок и приятен! Но разве что только дым. Болтаясь по разным буржуазным заграницам, в которые несли светлое будущее, мы отвыкли от родных хамских порядков и были неприятно шокированы. Тем более, летчики остались без ужина и завтрака.
Были и другие неприятные сюрпризы. Наш командир полка Платон Смоляков прихватил с собой в кабину небольшой чемоданчик, куда, судя по всему, сложил наиболее ценные трофеи. Когда после ночлега во вшивых казармах мы подошли к самолету, то Платон обнаружил, что чемоданчику, как говорят в Одессе, приделали ноги. Кто же «тиснул», плод многомесячных трудов «штыка» сержанта Харитонова? Скорее всего, свои. Атмосфера мародерства, двойная мораль очень разлагала людей. Платон долго сокрушался, плевался и переживал. Его можно понять, но потеря принадлежала к числу безвозвратных. Я заглянул за бронеспинку своего истребителя и с облегчением обнаружил, что пишущая машинка, добытая в Будапеште, а также угощения «мамы» на месте.
Утром мы прошлись по Одессе-маме и поели жареных бычков с помидорами, продававшихся прямо на Дерибасовской. Все поля возле Одессы краснели помидорами. Вообще, изобилие овощей и фруктов было удивительным. С ним могло сравниться разве что изобилие шпанья и бандитов. В городе практически было осадное положение. Военные власти пытались навести порядок. На всех перекрестках стояли наряды автоматчиков во главе с офицерами, которые проверяли документы у всех прохожих, насортировывая за день три-четыре вагона, которые заполнялись подозрительными элементами и отправлялись в Сибирь. Тем не менее, на рассвете всякого дня на улицах Одессы находили несколько трупов людей, ограбленных и убитых бандитами. Одесса, как масляный фильтр в самолете, стала отстойником всего уголовного элемента нашей армии. Сюда, к морю, теплу, овощам и грабежам слетались и дезертиры-казаки, не отловленные в Венгрии, и бойцы штрафных батальонов, чудом оставшиеся живыми, и московское шпанье, которому неуютно стало в столице, и бывшие полицаи, живущие на нелегальном положении.
Через некоторое время наши доблестные пилоты-освободители еще больше почувствовали глубокую благодарность Родины. Уразалиев, молодой и активный холостячок, принарядившись в новый костюм, привезенный из Чехословакии, серый в яблоках, и заломив лихую шляпу, поправляя для солидности пестрый галстук и постукивая по одесским мостовым туфлями фирмы «Батя», пустился, бродя по Дерибасовской, в амурные игры. Перемигиваясь с одесситками и ища возможности для более близкого контакта, он, видимо, наскочил на какую-то наводчицу. Девушка завела Уразалиева в какой-то переулок, где его уже ожидали трое громил. Доблестного пилота, зверски, как в окопном рукопашном бою, даже без особой необходимости, избили и вытряхнули из серого в яблоках костюма, не забыв прихватить и все прочее. Сколько людей погибло в те годы из-за такого пустяка, как костюм или наручные часы. Я отыскал Уразалиева после трехдневных поисков в одном из госпиталей, забитых ранеными, устроенном в здании школы. Весь забинтованный, в синяках и кровоподтеках, бедный Уразалиев плакал, слезы лились из единственного раскосого темного глаза, виднеющегося из-под бинтов, и жаловался на «падлюк». Прежде, чем найти Уразалиева, я обошел десятки госпиталей и насмотрелся всяких ужасов: безруких, слепых, безногих солдат, покатом лежащих на полу в больших залах на соломе, которые, это было совершенно очевидно, никому не были нужны и ничего хорошего их в этой жизни уже не ожидало. Я охрип, громко крича в этих скорбных залах: «Уразалиев!». Ведь не велось почти никакого учета раненых — их было так много. Наконец, в здании школы, превращенной в госпиталь, в углу кто-то жалобно замяукал, как голодный бродячий котенок: «Товарищ комиссар, я здесь». Уже будучи замполитом, я никак не мог отучить ребят называть меня комиссаром, а начальство косилось на это слово, враждебно относясь к «комиссарскому» духу. Уже через несколько лет командующий Приволжским военным округом генерал-лейтенант Николай Михайлович Корсаков поднимал меня на большом совещании и предупреждал, требуя бросить свои «комиссарские замашки». Нас, политработников, просто не знали, куда приткнуть и лупили при каждом удобном случае. Но это я к слову. А тогда я забрал Уразалиева, и в родном полку на летном пайке он быстро пришел в норму, что вряд ли произошло бы в госпитале на супе-брандахлысте и шрапнельной перловой каше.