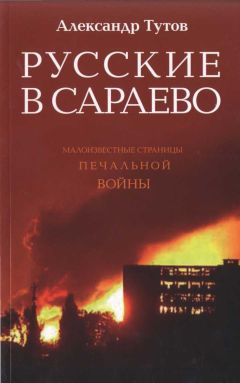Елена Ржевская - Домашний очаг. Как это было
Стихи писались туго. Подрабатывал тоже на радио в детском вещании. Денег совсем маловато, и выпало впервые — переводить. То была слабая албанская поэма, славящая вождя пролетариата. По ходу работы Дезик играючи сочинил новую главу поэмы. Благодарный автор, в свою очередь, переводил ее на албанский, укрепляя родную поэзию.
Петю Горелика, своего друга со школьных харьковских времен, прибывшего учиться в Военную юридическую академию, Слуцкий представил в предвоенном году. Он пришелся нам всем. Редкий человек. Друг. А его стойкая верность друзьям, любовь — оплот наших дружб на все времена. В войну, в самую тяжелую пору, он командовал бронепоездом полтора года. При атаке противника, под огнем его бронепоезд способен маневрировать взад-вперед, и не больше. Отчаянное дело. Позже был в штабе армии в управлении командующего бронетанковыми войсками. Теперь вот заканчивал военную академию.
Друзья в тот вечер собрались по нашему приглашению отметить выход моей книги. Нарядный зал «Метрополя». Пышные люстры. Хрустящие салфетки. Сидим. Чокаемся. Но что-то не клеится. Какая-то натянутость за нашим столом. Исходит от Слуцкого.
И тут не обойтись без отступления.
Незадолго до войны нам с подругой Викой Мальт дали в «Литгазете» на пробу отрецензировать книгу. Это был сборник переведенных с грузинского рассказов молодых современных авторов. Стихов мы не писали, но нам тоже чего-то хотелось — не отпасть бы от наших парней. Ведь и мы с ней вслед за Павлом и Сергеем Наровчатовым поступили в Литинститут.
Как уж там, но мы выполнили задание и, пожелав остаться незамеченными, подписались общим псевдонимом, сложив его из наших имен. В «Литгазете» статью приняли.
Прознав о наших успехах. Боря Слуцкий засек выход того номера газеты, разгадал псевдоним и незамедлительно позвонил к нам домой. Подошел папа. Боря ему симпатизировал. Сказал: «Поздравляю вас с выходом в свет вашей дочери с отменно плохой статьей».
Прошло еще какое-то время. Рассказ, прочитанный мной в Литинституте на семинаре у Михаила Левидова, встретил его громкое одобрение. Это разошлось по институту. Левидов — умный, желчный, обычно охотно ругал, но чтоб хвалил — не замечено. И наши поэты решили заслушать рассказ. Собрались, как обычно, у нас. Я в крайней степени напряжения только начала читать, как смешливый Дезик с подначки Кульчицкого прыснул. Я вздрогнула, замолчала и отказалась читать. Дезик пишет, что ему попало от Павла. Но на следующем сборе все же прочитала. И рассказ о моем дедушке и его смерти, о себе, о вековечных башнях Сванетии (я побывала в Сванетии летом) — во всей своей форсистой мешанине был принят по «гамбургскому счету» и закрепил в нашем кругу за мной репутацию прозаика.
Для меня остался тот вечер событием — торчит вехой в начале долгого пути.
А тут грянула война. Разметала. Но не наговорились и между собой, и с литературными противниками.
«Привет институту! Мы еще доругаемся», — писал мне 9.11.41 Борис Слуцкий из Свердловска, попавший по тяжелому ранению в госпиталь в начале войны.
Еще крепки узы дружбы с примесью нежности:
«Очень скучаю по Павлу», — это тоже он пишет из госпиталя. На фронте с его полевой почты на мою летели стремительные открытки в несколько слов: «Дорогая Лена! Волнуюсь и обижаюсь месячным неотвечанием на мое письмо. От Павла никаких известий. Целую почтительно. Борис».
Он бодр, увлечен, оптимистичен, хотя на юге начался грозный обвал нашего отступления. С ощущением себя лидером и собирателем сил не расстается с мыслями о литературе.
«Дорогая Леночка: 7.6.42
Прости, что на 5 дней задержан ответ. У меня все хорошо, т. е. интересно. Работы очень много — последнее время безостановочно. Крупно писал в последний раз — в ноябре, когда формировался. Написал очень хороший стих. В марте был в Москве. Сейчас, когда моя харьковская квартира эвакуировалась в Ташкент, Литературный институт кажется почти родиной. Леночка, я очень по тебе соскучился. В рейсах между полками я планирую литературу 1945 г. и задумываюсь над литературой 1960 г. Вряд ли ты попадешь куда-либо, кроме второй, и я очень уважаю тебя за это. Пусть это будет хорошая проза — 200 страниц, а может быть, и триста — две страницы войдут в хрестоматию. И ни одной строчки нельзя будет выкроить на цитаты. Леночка, я тебя очень люблю вообще и очень уважаю как писателя — будущего, доселе ты преимущественно осматривалась. Я умнее и спокойнее прежнего и безусловно красивее. М.б. пришлю карточку — в форме с тремя кубиками с любого фланга. Прости, но должен кончать. Жду от тебя очень подробного письма. Отвечу немедленно.
Целую, Борис».
Вот какие щедрые давались мне авансы, и всего-то за один прочитанный рассказ. А тут на ресторанном столике, уставленном кое-какими блюдами, выложена первая среди нас книжка да с ядовитой маркой серии «Военные приключения». Не тянет! Что тут скажешь? Еще Борис усмотрел, что из фронтовой моей тетради — я читала ему из нее, и он посчитал тетрадь «самоценной», — утекли и растворились в этом книжном повествовании отдельные записи. Не принял. На фронте он, размышляя о послевоенной литературе, рассчитывал и на мой качественный текст в 60-х. Но ведь покуда что на дворе 1951 год. Мы все же чокались и пили.
Впоследствии в редакции «Нового мира» мне случалось отмечать выход опубликованной в журнале повести, а книг своих как-то не пришлось больше ни разу. Не знаю почему.
5
В «Комсомольской правде» появилась положительная рецензия писателя Вершигоры на вышедшую мою книжку. Он, член редколлегии «Знамени», настаивал на опубликовании повести в журнале. «Он на нас топал, — говорила мне Софья Дмитриевна Разумовская, знаменитый в те годы редактор „Знамени“, и, питая слабость к пикантным сюжетам, поясняла от себя: — Он, Лена, влюблен в вас». Иначе с чего бы? Но Вершигоре понравилась повесть. Мне он надписал свою книгу, как, наверное, надписывал и другим, симпатизируя добровольно связавшим свою судьбу с воюющей армией, — «Человеку с чистой совестью». Это первая книга у меня с авторской надписью, и стоит она на первой полке в большом шкафу, где надписанные книги.
Вслед за его выступлением стали кое-где в печати мимоходом неодобрительно цепляться к книжке.
— Это я на вас теперь своих врагов навесил, — говорил Вершигора.
Петр Петрович Вершигора — до войны кинорежиссер Киевской студии, попавший в безысходное киевское окружение в начале войны, был одним из организаторов партизанского отряда из таких же, как он, бедолаг. Командовал дивизией в партизанском соединении легендарного Ковпака. Генерал, Герой Советского Союза, автор одной из первых книг о войне, о партизанах, книги живой, насыщенной. Книгой зачитывались. Мне показалось странным его упоминание о своих врагах. Его преследовали за интернационализм на Украине (более-менее скрытно), за то, что не отражена роль партии (в Москве, открыто). Ему мстили бывшие соратники за откровенность или за то, что обойдены в книге, или просто из лютой зависти. И сам легендарный партизанский командир Ковпак негодующе не прощал ему книги, желая видеть себя в ней в лучах славы, а не живым человеком, самородком со слабостями, не умалявшими его. Он был малограмотен. На рукописи «своей» книги, которую писал за него Евгений Герасимов, Ковпак расписался, не читая: «четал Ковпак» — этот автограф видела у Герасимова.
Вершигора, хотя поначалу был бурно принят, оказался одинок в литературной среде; к тому же не пил, что не способствовало сближению. Написав еще одну книгу о партизанах, чувствовал себя за пределами этого материала неуверенно, терзался, поручил мне прочитать рукопись и обсудить с ним.
Он не был защищен счастливым, плодотворным погружением в творческую работу, простодушно открыт для чувствительных ударов со стороны и личных неладов. Хороший, достойный, яркий человек и писатель был травим и подорван. Болел и рано умер. Внезапно.
6
Серия «Военные приключения» отметила свое юбилейное издание солидной конференцией в Союзе писателей, в конференц-зале. Подводились итоги. Я тоже получила приглашение.
Докладчик — автор военно-приключенческой литературы Николай Томан, малоформатный под стать серии, с подчеркнуто прямой спиной, как это бывает у тех, кому не хватает роста, но достает упрямства и целеустремленности, прошелся по книжкам, роздал всем сестрам по серьгам и слегка пнул меня, не зло. Остальное еще предстояло.
Начались выступления. Много сыпалось похвал этой серии. Было наглядно — идет мероприятие по приданию веса легковесному изданию. Мою книжку как пример неудачи издательства не оставляли в покое. Что-то такое нагнеталось и должно было произойти. Произошло. Прозвучало. Оказывается, написанное мной на руку американцам. Что? Почему? Какая зацепка, аргументация? Не имело никакого значения. И теперь все танцевали вокруг горячей темы: автор с проамериканскими поползновениями затесался в достойную серию. Формулировки ужесточались. Стенографистки за отдельным столиком фиксировали их своими закорючками.