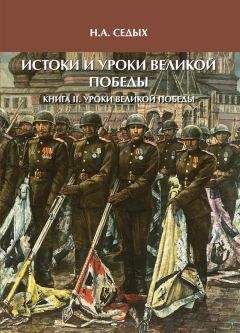Павел Ермаков - Все. что могли
Мы были у стен Москвы. Я слышал от многих официальную версию — русская армия окончательно разбита нами и развалилась. И вдруг грянуло ее наступление, как снег на голову, которого здесь так много, что мы увязли в нем, а мороз приморозил наши ноги к подмосковным ледяным полям.
Но самое главное, на нас неожиданно обрушился удар огромной силы. Артиллерия била так, что качалась и стонала земля, взлетала в воздух мерзлыми глыбами и хоронила под собой наших солдат. Особенно эти «катюши», как русские называют свои реактивные минометы. Они швыряют на наши головы снаряды с огненными хвостами. Войска бежали, слышались вопли раненых, мольбы не оставлять их в снегу на погибель. Слава Господу, мне помогли взобраться в отъезжающий грузовик. Одного такого дня достаточно, чтобы постареть на десяток лет.
Извините, отец, нервы… они натянуты, как стальные струны. И не только я, другие фронтовики тоже, кто в состоянии, вскакивают со своих кроватей, когда до слуха долетают звуки разрывов. Кажется, что русские подошли и сюда, в наш глубокий тыл.
Прошу вас, отец, не поймите это изображение русского наступления за мою растерянность. Дух мой не сломлен. Я и одной рукой смогу не только держать оружие, но метко стрелять. Я буду жестоко мстить за крушение моей мечты.
Либер фатер, после госпиталя я приеду к вам, отдохну, потом отправлюсь в свое имение. Очевидно, господину Стронге я больше не пригожусь. Но, как вы помните, у меня еще остались важные дела в губернском городе.
Теперь та «блестящая партия», которую вы мне прочили, не откажется от однорукого жениха?
Мне очень хочется встретить Рождество дома, под вашим отчим кровом, в семейном кругу. За два месяца я столько увидел крови, страданий, трагедий и смертей, что душа просит покоя и отдыха. И все-таки… прежде я побываю в губернском городе. Я должен убедиться, что в моей единственной руке лежат мои ценности. Только это принесет успокоение».
24
Перед Новым годом Наде выдали премию. Да не простую, не какие-то там двадцать или тридцать рублей, которые теперь мало что стоили, ибо купить на них было нечего и негде. Ей вручили кружок вкусно пахнущей копченой колбасы, две банки сгущенки и большую плитку шоколада.
— Детишки малые у тебя да мать-старушка, так что и дома дел по маковку, — говорила председатель сельсовета, передавая ей гостинец. — Но ты прежде-то о других печешься, о здоровье наших бабеночек, на ком нынче колхоз держится, пока мужики на фронте с врагом бьются. За сердце доброе и руки твои золотые тебе не такой бы подарок надо. Да уж больно мы бедные.
Несла Надя свой гостинец, думала порадовать Машеньку и бабушку, а у самой, как это часто теперь случалось с нею, в груди закаменело. Напомнила председательша о воюющих мужиках, и она мыслями унеслась к своему Андрею, на пограничную заставу, куда проводила его в последний день перед войной. Все еще слышала, как бы через перестук колес поезда, что кричал коновод Андрея Ванюша Кудрявцев: «Капитан велел вам домой ехать, обязательно до дому добраться».
В работе, на людях, забывалась немножко, а как приходила в свою хату, снова те же мысли одолевали ее. Маленького Димку кормила грудью, он таращил на нее глазенки, до последней черточки Андрюшины глаза. Шестой уж месяц мальчонке. Вылитый отец. Где он, его отец?
Писала в Москву, просила сообщить, не известно ли что о судьбе коменданта пограничной комендатуры капитана Ильина Андрея Максимовича. Послала запрос и все сомневалась, до нее ли теперь там. Москва-то сама в осаде. Но ответ пришел неожиданно скоро. Взяла в руки казенный бланк с печатями и подписями, с фиолетовой чернильной строкой: «Капитан Ильин А. М. пропал без вести». Какие-то пугающие своей неясностью слова. Что значит, пропал без вести? Как мог пропасть человек, командир, если вокруг него тоже люди были?
Они, эти слова, то пугали ее своей неопределенностью, то вселяли надежду: вдруг что-то прояснится, узнается… Опять, с новой силой, заструилась эта вера, когда председательша вручала ей подарок. Может, не только деревенские мужики бьются с врагом, ее Андрей тоже? Что, если и он на фронте где-то?
Если б так-то, неужто не написал бы, не прислал весточку? Не бывало еще в жизни такого, чтобы мог, да не известил, где он и что с ним.
На Кавказе, на пограничной заставе, служили. Под Новый год — хотя и неспокойная, но все же мирная жизнь была под тот Новый год — через границу прорвались нарушители. Андрей увел почти всю заставу в поиск. Сидела, ждала, как на иголках. Машенька крошечной тогда была, вроде Димки. В самую полночь прискакал нарочный, записку с поздравлением ей привез и букетик засохших полевых цветов. Где только отыскал их?
Новогодняя ночь прошла, и следующий за ней день минул. Андрей вернулся поздно вечером. Нарушителей привел. Уставший, вконец замотанный, шутил. «Цветы ночные — это только цветочки, а это, — кивнул на заросших, нахохлившихся лазутчиков, — ягодки. Мой тебе новогодний подарок. Не эти субчики, конечно, а то, что мы их задержали, границу сберегли».
Последние недели, с того дня, как радио сообщило о разгроме немецких войск под Москвой, Надя жила ожиданием перемен. Больших перемен вообще, как считала она, во всей жизни, счастливых лично для нее. Торопилась по утрам на свой медпункт, включала черную тарелку громкоговорителя и ждала, что вместе с рассказом об освобождении новых городов и сел она услышит что-то такое, что поможет ей прояснить судьбу Андрея. Она никогда не была в Москве или вблизи столицы, но сейчас, слушая названия освобожденных от немцев мест, представляла их родными, близкими, будто проходила по их улицам, видела дома, радостно встречала наших бойцов. И страшно огорчалась, что вместо когда-то веселых, одетых зеленью деревенек бойцы видели только торчащие задымленные печные трубы да груды головешек. Сразу перед взором вставал сарай, охваченный багровым пламенем, в котором сгорели ее подруги и их дети.
Возвратившись из сельсовета, она уложила полученный гостинец в сумку, закрыла медпункт и направилась домой. Увидела на узенькой тропинке, пробитой среди сугробов, бежавшую ей навстречу Машеньку. Девочка была укутана в старую бабушкину клетчатую суконную шаль. Она размахивала ручонкой и звонко кричала:
— Мама, письмо… от дяди Аркадия письмо!
От Аркаши, от брата? Как и от Андрея, от него с начала войны не было вестей, и вот — радость. Нет, не напрасно она ждала перемен. Они уже наступают.
Дома, не раздеваясь, развернула затертый, перемазанный черной краской фронтовой треугольник, быстро пробежала глазами по листку. Жив Аркаша, воюет. Потом, усмирив волнение, с чувством, с толком прочитала письмо вслух. Мать утирала слезы, тихо роняла слова:
— Отцу-то отпиши сразу. Обрадуется. Уж как он, сердешный, об их обоих горевал.
Отец Нади, непризывного возраста, работал теперь на оборонном предприятии, вдали от дома.
Аркаша писал, что со своим погранотрядом отходил с границы, потом попал в окружение, наконец-то вырвался из него и снова воюет. Спрашивал, есть ли известия от Андрея, не приехала ли Надя домой. Письмо помечено ноябрем. Видимо, не легким оказался путь не только у самого Аркадия, но и у его коротенького письма.
Снова как бы яркий лучик пробился сквозь завесу облаков. Разве то, что случилось с Аркадием, не могло произойти с ее Андреем?
Вечером они устроили пир на весь мир. Отварили картошку, тонюсенькими ломтиками нарезали колбасу, открыли банку со сгущенкой. Встретили Новый год еще до его прихода. Каким он будет для них, что принесет им, думала Надя, уложив детей и укладываясь сама.
— Мама, а скоро придет письмо от нашего папки? — услышала она Машеньку.
Девочка, казалось, уже уснула, но вдруг села в кроватке и глянула на мать совсем не по-детски. Надя склонилась к ней, обняла, укрывая одеялом, задумчиво пообещала:
— Наверное, скоро. Может, и сам приедет.
Сглотнула тугой комок, улыбнулась дочке.
— Я немного посплю, и он приедет? — спросила Машенька.
— Хорошо бы так-то…
Ночью Димка заплакал. Надя встала, взяла его на руки, дала грудь. При свете керосиновой лампы опять отчетливо увидела на лице сына Андрюшины глаза.
Потом лежала, долго глядела в темный потолок, шептала:
— Где ты, мой родной? Подай знак, отзовись.
25
К ночи разыгралась пурга. Тугие порывы встряхивали деревья, с макушек и ветвей срывались снежные комья. Они скользили по заиндевелым сучьям, рассыпались, в морозном воздухе роилась студеная игольчатая пыль. Над землей струилась поземка, стегала по ногам лошадей.
Три повозки катились по узкой лесной дороге. Кони ходко рысили, кованые копыта с хрустом вспарывали утоптанный снег, полозья повизгивали.
Горошкин соскочил с первого возка, подождал, пока с ним поравняется последний, запрыгнул в него.