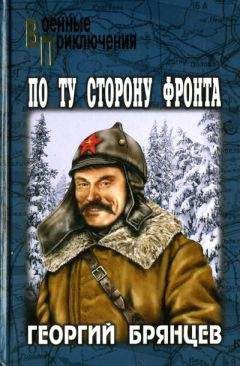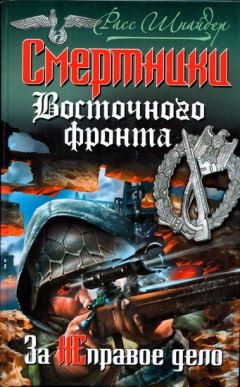Северина Шмаглевская - Невиновные в Нюрнберге
Наступило долгое неловкое молчание.
— Пойдем, — предложила Соланж. — Нас ждут на радио.
Она побежала по тропинке к дворцу и остановилась в тени деревьев, поджидая меня. За нами шли остальные. Я услышала, как Кароль Малцужиньский, то и дело попыхивая трубкой, сказал:
— Что правда, то правда — действительно культурный человек этот Фабер. Не чета гитлеровцам. А в далеких лагерях тысячи и тысячи людей душили циклоном, сжигали в крематориях, развеивая их прах по полям или сбрасывая в реки. А Фабер не такой! Он ставил надгробия, чтобы каждый мог прочитать, сколько прожила собака, как ее звали при жизни, чтобы собачьи души могли явиться на Страшный суд и выть вместе с освенцимскими овчарками, во славу добрых и культурных немцев.
— Мадам Соланж Прэ просят к телефону, — сообщил портье. — Мне не хотелось мешать вашей прогулке, но этот тип рявкнул: «Bist du verrückt geworden?!»[32]
Профессор-гид качнул головой, светящейся в темноте, точно белая хризантема.
— Мадам, — шепнул он с подобострастием, — звонит какое-то важное лицо.
Соланж взяла меня за руку.
— Только вместе. Иначе я не смогу играть, я хочу быть с тобой, особенно после этой бодрящей прогулки.
Трубка лежит возле зеркала в вестибюле. Соланж с кем-то разговаривает, одновременно поправляя волосы.
Потом обращается ко мне:
— Ты очень устала? Какой-то репортер с радио приедет за нами. У нас всего десять минут. Он вроде бы хочет задать мне какой-то важный вопрос. Он сразу после концерта намекал на это, и теперь снова…
Мы стояли у подъезда. Далеко позади в сиянии лунного света, укутанные серебряным инеем, остались парк и собачье кладбище.
В морозном воздухе громко скрипел снег под ногами возвращающихся людей. Возглавлял это шествие экскурсовод, опустив голову и глядя себе под ноги, точно он искал на дорожке парка обломки камней и надписи из Треблинки.
Кароль Малцужиньский все так же попыхивал трубкой.
— Ну до чего же человечный этот Фабер, не правда ли? — шепнул он с иронией.
Ему ответил Керат:
— А мне довелось дожить до исторического момента: гуляю себе время от времени по резиденции Фабера… и внукам расскажу… о памятниках старого Нюрнберга… об уютном тихом кладбище собак… О, du blöder Hund[33], но какого класса был человек!
До чего обидно. Я всегда радовалась, что не живу в эпоху Столетней или Тридцатилетней войны, но как назвать время, в которое мне выпало жить? Это не годы правления Тиберия, не эпоха Священной инквизиции, судов, Гойи, которого по ночам вызывали на допросы.
Это годы, когда я живу, единственный отрезок моего путешествия по этой земле, неповторимые годы, и я должна их прожить по законам и беззакониям времени. И, судя по всему, как и люди давних веков, иных спиралей существования, иных комет, окружающих земной шар, я проживу их без участия свободной воли, без выбора. Все насильно навязано нам, целым народам, и недостает сил бороться с бессмысленностью бытия.
Это пытаются делать разве только самоубийцы, но их поступки свидетельствуют скорей о слабости, чем о силе.
Мое лицо овевают струи кислорода, водорода, других газов и огня, ведь все это может постепенно превратить в тлеющую головешку любого такого же сильного, могучего, закаленного, как Геракл, проложит глубокие борозды на его лице, иссушит губы и щеки, обесцветит волосы, погасит блеск самых ярких глаз, под которыми появятся мешки и густая сетка морщин.
Получилось, что группка дегенератов провозгласила лозунги, прикрылась ими и беспрепятственно пустила в ход свой инстинкт убивать и еще раз убивать, послала на смерть миллионы молодых людей. И на свежих могилах новые вожди начинают ставить под ружье следующие поколения.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
— Садись поудобней и слушай, я сыграю для тебя, — говорит Соланж. — Теперь я могу играть до утра.
Наблюдавшему через окно режиссеру она дала знак, что готова. Крышка рояля, переставленного по ее желанию, загораживает Соланж от взоров тех, кто готовит радиопередачу. Мне понятно ее желание быть невидимой. Погас зеленый сигнал, и на его месте тут же вспыхнул красный. Соланж взяла первый аккорд. Пальцы свободно скользят по клавишам, и я уже знаю, что Соланж в приливе вдохновения будет играть так, словно находится в полном одиночестве.
В студии прекрасная акустика, у рояля чудесный, глубокий звук. Мужчины ушли в кабину записи.
Значит, можно думать о своем, можно даже помечтать. Странно, что журналисты с таким упорством возвращаются к той теме… Им хотелось бы узнать обстоятельства незабываемого концерта… Видно, Соланж как-то обмолвилась о нем. Тех нескольких слов, что сказала я, недостаточно. Их интересует гонорар, сколько ей заплатили. Какая святая наивность! Представляю, как вытянулись бы их физиономии, расскажи им Соланж правду. Как-то в воскресенье у нас там организовали выступление оркестра с участием выдающихся европейских солистов. Стулья и пюпитры расставили на посыпанной гравием земле, между двумя рядами колючей проволоки под током. Во время подготовки узникам казалось, будто грядет нечто светлое, способное утешить, унять боль. Кто мог, тянулись к этому месту послушать музыку. Все равно какую. Дело было не в том, что сыграет бельгийка Соланж Прэ, одна из самых способных учениц профессора Джевецкого, а в самом невероятном, небывалом факте концерта в лагере. Повеяло весной. Откуда-то донесся запах леса и луга, земли, орошенной дождем. В этот воскресный день долетел до нас аромат испеченного домашнего хлеба, овеяв до боли пронзительной иллюзией свободы.
Наш оркестр пополнили большой группой привезенных из Освенцима мужчин, их выбирали так же, как чуть раньше нас в Биркенау. Играющие счастливчики, которым кое-как удалось подстроиться к мировым знаменитостям из Вены, Будапешта, Парижа, Варшавы, изо всех сил трясли аккордеонами, били в тарелки, дудели во флейты, чтобы хоть таким образом оплатить право на жизнь.
Примерно в полдень узники привезли рояль и осторожно установили прямо на песке, его надо было успеть настроить перед репетицией. Долго ждали еще кого-то. Все расползлись по баракам, и рояль стоял один, салонный до абсурда, ярко-черный на фоне желтой высохшей лагерной глины. К роялю сбежались девушки, привезенные всего несколько недель назад из разных стран Европы, где немцы продолжали свою охоту на людей по принципу расовой принадлежности. Вновь прибывшие находились в состоянии непреходящего ужаса, первые дни жизни в лагере, возле стен крематория, чудовищно страшны, потом приходит отупение. Голод, нервное напряжение, бессонница лишили их энергии и силы, они быстро превратились в тени, облаченные в сине-серую полосатую арестантскую одежду, неустанно бродили они между бетонными столбами с колючей проволокой, за которой видно было то, что не могло нормальному человеку привидеться даже в самом кошмарном сне.
Заключенные из более ранних партий легко отличали новеньких. Их обритые наголо головы, фиолетовые от холода, не были прикрыты платками — им, видно, не успели их еще выдать. Ноги, обутые в плоские гигантские деревянные башмаки, больше напоминали ходули, на которых человек хоть и двигается, но с трудом сохраняет равновесие.
Они окружили рояль, и вдруг одна из них, лет четырнадцати, такая же худая, как все, села, тревожно огляделась, закрыла глаза и заиграла «Славянские танцы» Ференца Листа. Ее худенькие смуглые руки, ее тонкие пальцы вызвали бурю звуков и ритмов. Остальные, столпившись, слушали — немые, трагические, уже обреченные на гибель. По их изможденным лицам катились слезы, а музыку сопровождала трудная и странная венгерская речь.
Когда на них, грозя палкой, налетела дежурная, они разбежались, попрятались за бараки, затаились в уборных, исчезли, как отступает перед насилием каждый человек.
По роялю застучали крупные капли дождя. Они падали на глиняную пыль лагерной земли и скользили по ней, точно темные пауки. Если испортится погода, концерт не состоится, огорчилась я.
Но концерт состоялся. Пришли узники из лагерного оркестра. Слушая в их исполнении Бетховена, я подумала, нет ли среди них мужчины, который думает и чувствует так же, как я.
А он, имени которого я даже не знала и лицо которого вряд ли смогла бы разглядеть среди других, стоял в это время в толпе обритых, одетых в полосатые робы людей по ту сторону проволоки.
Дежурные свистели, созывая на концерт.
Я помню, как меня охватила усиливающаяся по мере приближения концерта тревога. Стоящий на земле рояль звучал хорошо, но руки Соланж одеревенели, она отстучала, пробуя инструмент, какую-то мелодию, понимая, что оцепенение вызвано ее психологическим состоянием: всего вероятней, ей предстояло играть последний раз в жизни — на утренней селекции ее номер внесли в список тех, кого отправят в газовые камеры. Она знала об этом. В подобной ситуации многие проблемы отпадают сами собой, исчезают. Человек созревает.